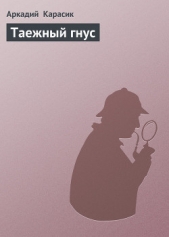Таежный омут (сборник)

Таежный омут (сборник) читать книгу онлайн
В новый сборник молодого томского прозаика Сергея Алексеева вошли две повести «Не поле перейти», «Растрата» и рассказы. Для автора важно показать процесс преодоления человеком физических и нравственных трудностей. Зачастую герои оказываются в критических ситуациях, когда приходится переосмысливать прожитое и выбирать для себя единственно верный путь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полина брела за Усольцевым, за его мельтешащей квадратной спиной в красном, закатном просвете свежевырубленной просеки, и ей, чем ближе становился лагерь, тем сильнее не хотелось возвращаться туда. Лучше бы сесть вот здесь, среди камней и валежника, без костра, в комарином рое и ночном холоде продрожать до утра, не идти под многозначительные взгляды, порой презрительные, порой явно похотливые…
В начале сезона было проще. Поворчали, правда, мужики на Каретина: что, мол, бабу в тайгу тащишь, потом утихли, и Полину будто не замечали. Только Димка, пожалуй, не мог не замечать. Он, заеденный гнусом около теодолита, махал руками, кричал и ругался на всю тайгу: то рейку Поля криво держит, то дерево ему мешает, то просто так, от «психа». Проще было до тех пор, пока один из рабочих отряда Локтев, здоровый, заросший до глаз рыже-черной бородой, за что когда-то получил прозвище «Пустынник», но больше походивший на удалого веселого цыгана, не вломился вечерком к ней в палатку. Неизвестно, что было бы, не окажись близко Каретин…
Видела Полина среди этих взглядов один, не похожий на другие. Давно заметила она глаза Каретина: то с добротой, то с укором, то странные, словно этот парень что-то потерял, а теперь ходит и ищет и не найдет никак… Ей, скорее всего, именно этот взгляд больше всего казался ненавистным. Ненавистным, потому что напоминал с таким трудом забываемый взгляд другого, там, в юности, кажется, ушедшей на сто лет назад: этот милый взгляд, с которым вначале было тепло и просто, потом – неуверенно и обидно. А дальше – как по вертикали холодно, гадостно до тошноты и передергивания, со всплесками жалости, как суконное одеяло, душной, вяжущей.
Это почти забыто. Узкая комната в общежитии Седьмого рудника, пьяный муж в сапогах и одежде на постели, которая всего какой-то год назад была первой брачной…
– Ты опять?
– Молчи, дура! Вон отсюда!
– Ты же обещал…
– Вон!!!
А потом твердые, очень твердые сапоги на спине, животе, груди… Поля искала этому причину, успокаивала себя, уговаривала и упрашивала его, валяясь в ногах! Нет, ничего не осталось от того взгляда. Пустота, унижение, звериная слепота… Встала с колен Полина, встала, заледеневшая к этому отвратительному человеку, ко всему руднику, ко всему миру. Скрутила в крутой канат себя, обиду, боль, надежду. Застыла, закаменела. Век прошел – ледяная, каменная. Ни отогреть, ни расплавить. Вот только куда деть себя такую? Жить надо, а кругом люди, каждый со своим, жгут глазами, сочувствуют. Кинула Полина в чемоданчик свое девичье, порезанное ножом голубое пальто, заняла у соседки десятку и поехала. Куда? Какая разница, докуда денег хватит…
Встретился Каретин, срочно искавший рабочего, то ли добрый, то ли просто пожалевший ее.
Потом был Пустынник: «Мы ж тебя для чего подобрали? Чего ломаешься?»
«Что же это такое?! – оставаясь одна, думала Полина, сжавшись в комок. – Почему все такие? Уроды со страстью, дикари, скоты с бородами и глазами, в которых, кроме вожделения, – ничего Кто слеп? Они или я?»
Страха не было, а пробивалась та обида на мир за растоптанное сапогами, исковерканное, заплеванное. А жить все-таки надо. И возвращаться каждый день в лагерь надо, сжиматься, прятаться, как обычно, идти под взгляды с оскалом улыбки и под его, каретинские, взгляды.
2
Топографы урывали погожие дни. Работали с шести утра и до заката. Погода на Подкаменной Тунгуске мудрила: вечером ясно, утром – дождь, и если пошел, так на неделю. Не хотел Каретин в этом году забираться на Подкаменную, с весны вообще мысли были уволиться и уехать к матери в Молдавию. Десять лет подряд полосовал он приенисейскую тайгу просеками, дешифровал аэрофотосъемку, а нынче попало то, что недолюбливал делать Каретин, – крупномасштабная съемка участка для геологов. Работы – море, а в конце сезона результат – четвертинка планшета.
Обычно вечером, после возвращения с профилей, Каретин сидел за столом среди топографов, слушал их разговоры и молчал. Ужин начинался по приходу из тайги последнего человека. А сегодня опять где-то задержались Усольцев с Полиной. Не будь с ним ее, дал бы Каретин разгону Димке, заставил бы его пошевеливаться на просеке. А здесь… Сачковатый Димка не раз уже давал парням пищу для трепа. Без зла, конечно, но кому понравится каждый день одно и то же: «Опять Усольцева нет, наставит он кой-кому рогов!» – и непременно посмотрят в его сторону.
Наконец подпрыгивающей походкой, упаренный от ходьбы и злой, появился Усольцев. Сбросил инструменты, посмотрел на сидящих и оглянулся назад, будто подтверждая, что пришел не один. К лагерю подходила Полина. Шла спокойно, хотя Каретин сразу отметил ее усталость.
После ужина люди разбрелись по палаткам. Каретин. делая вид, что морокует над картой, остался за столом. У костра Полина домывала посуду. Склонив голову над пестротой линий, отметок, названий и не видя их, Каретин щурил глаза, будто вытаскивал откуда-то из глубины памяти отрывки непродуманных мыслей, играл крупными желваками на скулах. Каретину всегда казалось, что он умеет жить в себе, не выставляя, не показывая никому ни горя, ни радости. Да. Может быть, и умел до некоторых пор. А сейчас, в тридцать с лишним, разучился.
… Выждав, пока Полина скроется в своей одноместной палатке, Каретин хотел было уйти спать, но к нему подошел Усольцев, уселся напротив и с неожиданным гонором заявил:
– Ну вот что, Каретин, давай-ка мне вместо бабы кого-нибудь, а ее забери себе, если хочешь, – и, снизив голос до шепота, с маской простачка на довольном лице добавил: – Ты же, кажется, виды на нее имеешь?
Каретин изо всей силы ударил планшетом по столу:
– Знаешь что, ты? Будешь мне воду мугить – выпру из отряда к чертовой матери! Понял?
Зная по прошлым временам, что вывести из себя спокойного, справедливого Каретина не так-то просто (по крайней мере, пошли в сердцах куда подальше – не вскипит), Димка вытаращил глаза и быстро-быстро заговорил:
– Да ты че? Я же шутя. Она баба ничего, только дурная какая-то. Выкобенивает из себя… Поговорить нельзя – фыркает, как эта… А ты сразу кричать. Можно и тихо: сказал – будешь работать, и все! А ты – а-а! Я тебя! Туды-суды!
Каретин не ответил, встал и зашагал в сторону густых пихтачей, тесно подступающих к лагерю и разрезанных просекой. Срубленные в два-три маха стрелы пихт жалко топорщились по сторонам, обливаясь смолой. Желтые свежие пни фонариками маячили, теряясь в просеченном клине. За спиной переливался в просвете деревьев закат, растворял в себе вершины. «Глупо, – размышлял Виктор Каретин, поднимаясь по склону горы, заваленной крупными глыбами камня. – Глупо вот так орать, но обидно же! Если бы на самом деле было что-нибудь, а то все впустую, как шестеренка без зубьев, крутишься около, а уцепиться нечем. А впрочем, бог с ними – пусть треплются, плевать. Вот только на парня зря крикнул, он и неплохой вроде, хотя заноза порядочная. Так с людьми не работают. Если псих, то лечиться надо, а не отрядом командовать. Ни Димка, ни Полина здесь не виноваты. Сам от дурости не знаю, куда себя сунуть…»
Просека оборвалась на курумнике, похожем на негатив под красноватым светом уходящего солнца. На курумниках никогда ничего не растет, и они – голые плешины среди густой хвойной тайги – всегда казались Каретину озерами со вскипающей от шторма поверхностью. Выбрав камень повыше, Виктор сел, закурил. Остро пахло цветущим багульником; над головой, не обращая внимания на густой махорочный дым, тонко звенело комариное племя. «Неужели на этом развале когда-то стояла скала? – вяло проскочила мысль. – Не вяжется: скала – и эти серые камни, задернутые мхом. Ха! Даже мох и тот растет со стороны, где теплее. Все хотят жить там, где тепло, а его нет», – с физически ощущаемой горечью подумал Каретин. Запах багульника, дурманящий, наркотический, бугрящееся каменное озеро, красный свет закатившегося и горящего, как костер, за горизонтом солнца… «Да! Настроеньице в этом сезоне – швах. Так работать нельзя. Раньше радовался, когда оторвешь глаз от перевернутого теодолитного мира, а сейчас – наоборот: радуешься, пока смотришь через линзы, оторвался – все переворачивается с ног на голову. Эх! Бросить эту работу, забрать Полину и уехать к матери. Да ведь не поедет она… А! Все к чертям! Жить надо проще. Придумал себе заботу, их и так хватает. Не смотришь – ну и не надо». Каретин встал с холодного камня, зашвырнул окурок, брызнувший искрами между камней, и заспешил в лагерь, сбивая кирзачами моховые гребешки с останков скалы. Не успел он дойти и до опушки курумника, как в противоположной стороне услышал треск. То ли зверь, то ли человек ломился по тайге, не выбирая пути. «Кто это может быть? – без интереса подумал Каретин и остановился. – Зверь, что ли?» Рука привычно потянулась к поясу. «От, зараза, наган не взял», – уже вслух сказал Каретин и присел на корточки. Там, где трещало, вдруг раздался негромкий голос, скраденный застоем вечернего воздуха, и скоро на каменную «мостовую» вышел человек и направился прямо на Каретина. Метров за десять человек остановился и крикнул: