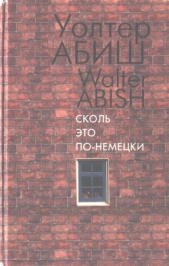Близнецы
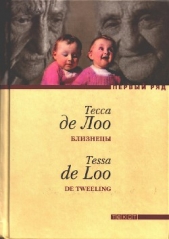
Близнецы читать книгу онлайн
Две пожилые женщины случайно встречаются в курортном городке и неожиданно узнают друг в друге… сестер- близнецов, разлученных в далеком детстве после смерти родителей. У каждой позади своя жизнь, война оставила жестокие рубцы на их судьбе. Могут ли понять и простить друг друга вдова офицера СС и женщина, скрывавшая евреев от нацистов в своем доме? День за днем они встречаются в кафе, вспоминают пережитое и пытаются пробиться сквозь стену отчужденности. Нам кажется это невозможным, до самого конца, до последней страницы, когда…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Именно тогда, когда Лотта потеряла всякое терпение — уж слишком долго длилось его молчание, — ей позвонил отец Давида. Приглушенным голосом он спросил, могут ли они с женой зайти к ней сегодня вечером; им необходимо с ней кое-что обсудить. Кровь хлынула в голову. Почему Давид посылает своих родителей? И это после всех его речей! Он что, сам не мог прийти? Их встречали торжественно — известный певец как никак. Лоттин отец молча пожал им руку, певец грустно улыбнулся, а усы совратителя вытянулись в полоску. Его взгляд скользнул по четырем сестрам:
— И кто же из вас Лотта?
Лотта нерешительно кивнула. Мать Давида поспешила взять ее за руки и легонько их сжала. Не в силах сдержать чувства, она раскрыла сумочку из крокодиловой кожи и достала носовой платок.
— Мы и не знали, что у него была девушка… — сказала она, растрогавшись.
После того как они сели, отец Давида взял слово. Поводом к их визиту послужила открытка от Давида из Бухенвальда, в которой он просил родителей передать привет Лотте, так как не успел с ней попрощаться.
— Бухен…вальд? — пролепетала Лотта.
Де Фриз старший сглотнул и провел рукой по лбу — жест, выражающий безнадежное смирение. Уставившись в пол, он рассказал, что в субботу двадцать второго февраля Давида арестовали в амстердамском еврейском квартале, когда он музицировал со своими приятелями. Внезапно в дом ворвались полицейские и приказали им встать спиной к стене.
— Wer von euch ist Jude? [70] — крикнули они. Ни секунды не раздумывая, еще весь в своей музыке, Давид сделал шаг вперед. Два других еврея из их компании мудро держали рот на замке. Его отвезли на площадь Йохана Даниэла Мейера, где уже столпились десятки других товарищей по несчастью. Без каких бы то ни было обвинений, без суда и следствия, их увезли в Германию, в лагерь.
Мать Давида всхлипнула. Отчаянно озираясь вокруг, отец Лотты пытался говорить бодро:
— Вот увидишь, через несколько месяцев мальчишек вернут домой. Немцы просто хотели наказать их для острастки: чтобы другим неповадно было устраивать беспорядки. Давид здоров, он много занимался спортом… Не так уж плохи у него дела… прочти сама… здесь…
Лотта склонилась над скудными строчками на открытке: «…es geht mir gut, wir arbeiten tüchtig…» [71] Эту открытку он держал в руках. В ней было что-то тревожное — открытка, которой удалось покинуть лагерь и найти дорогу домой, в то время как ее отправитель находился под арестом. И все же она не в состоянии была проникнуться всей серьезностью происходящего. Это было так странно, так нелепо, так бессмысленно, что не укладывалось в голове. Она непроизвольно посмотрела на пианино — ноты еще лежали раскрытыми на той странице, где они остановились. Всем своим существом она противилась мысли о том, что он так просто взял и исчез. На душе стало легче только тогда, когда она представила себе трудовой лагерь, нечто вроде лагеря скаутов, где на открытом воздухе рубили дрова и сажали деревья…
— Мы тоже пошлем ему открытку, — сказал отец Давида, — может, и ты черкнешь пару слов?
«Дорогой Давид…» — написала она мелкими буквами, отыскав свободное местечко. Ручка застыла в воздухе. Она чувствовала за спиной взгляд отца, управляющий ее движениями. Вот бы написать ему на тайном языке, что-то личное, существенное. Ей вспомнилась строчка из песенного цикла, которую она, слегка перефразировав, не раздумывая, положила на бумагу: «Я надеюсь — ты лишь гуляешь, и путь свой вновь домой направляешь…» Пока она перечитывала строчку, ее вдруг охватил неистовый страх. Боже, что она написала? Цитату из печального стихотворения, элегии. Слишком поздно, слишком поздно, чтобы что-то менять. Дрожащей рукой она отдала открытку. Ей стало нестерпимо в комнате, вид родителей Давида ее пугал, да и сочувствие собственных родителей было невыносимо… мир, позволивший исчезнуть ее другу, спирал дыхание. Она резко поднялась и, не проронив ни слова, вышла из гостиной — по коридору, из дома, на улицу. С бешено колотящимся сердцем она упала на ступеньку садового домика. Словно медленно действующий яд до нее дошло нечто, столь же ужасное, как и само исчезновение Давида: двадцать второго февраля он мог бы быть с ней… если бы она захотела.
Несколько недель подряд она истязала себя самоанализом: почему она сразу не согласилась на его предложение… почему взяла время на раздумья… хотела ли она его испытать… подразнить… зачем надо было все затягивать? Она мучила себя вопросами, на которые не могла ответить, вопросами, постепенно превращавшими ее в горгону и неизменно приводившими к одному и тому же беспощадному выводу.
Снова позвонил отец Давида. Они получили вторую открытку, на этот раз из Маутхаузена, с загадочным текстом: «Если я как можно скорее не получу свой парусник, будет слишком поздно…» Он отчаянно воскликнул:
— Он умоляет нас о помощи, мой мальчик, но что я могу сделать? Я бы хотел поменяться с, ним местами-я старый человек, а у него еще вся жизнь впереди…
Лотта тщетно подбирала слова — всякий раз, когда она действительно в них нуждалась, они куда-то пропадали. Если Давид не выживет, то вся идея справедливости превратится в иллюзию, а мир — в царство произвола и хаоса, посреди которого человек с его планами, ожиданиями, надеждами и фантазиями — ничего не значит, он — абсолютное ничто. По ночам в ее снах проплывал корабль с надутыми парусами, озера JIoo- сдрехта разливались до размеров океана, сам Давид, загорелый и сияющий, стоял у штурвала — потом вдруг падал в воду и пытался, окоченевшими пальцами хватаясь за край лодки, подтянуться на борт.
От отца она получила его последнюю фотографию, на которой Давид душераздирающе невинно улыбался в камеру. Наивность стоила ему свободы, а может, даже и жизни. Он оказался в неподходящем месте в неподходящее время — без этой мысли она не могла смотреть на фотографию. Исключительно из уважения к нему она не разорвала снимок. Беззаботно помахав рукой, Давид укатил на велосипеде из ее жизни; это движение руки, вверх-вниз, никак не выходило из ее головы, как будто в нем был какой-то скрытый смысл. А что, интересно, он напевал, растворяясь в темноте?
Музыка ее раздражала. Все эти мелодии, такты, тональности, украшательства казались ей смехотворными — бессмысленная мишура, ложные сантименты. Ее голос перестал брать высокие ноты, а на глубине неуверенно вибрировал. Катарина Мец отправила ее домой:
— Приди-ка ты сначала в себя.
Откуда берется и куда уходит вся эта вода? Анна лежала в блестящей медной ванне, на коже оседали воздушные пузырьки — причудливое сплетение чешуек. Бледное скользкое тело было погружено в воду. Наверняка создана хитроумная система водосточных труб, по которым вода из источников попадает в термальный комплекс, а потом выводится обратно — омываемое в течение получаса тело лишь транзит на ее пути. И всю эту воду, текущую незримо и неслышно, точно кровь по жилам, словно насос, выкачивает термальный комплекс-сердце. Интересно, сколько бутылочек минералки требуется на такую вот ванну?
Много лет назад это самое тело сидело в корыте на кухонном полу, а дядя Генрих с издевкой барабанил в запертую дверь: ну и грязнуля же ты, если моешься каждую неделю. Казалось, что в ванной повисла напряженная тишина, как если бы курортники из прошлого боялись себя обнаружить. Какие известные мертвецы нежились в этой ванне? Неужели здесь и поныне витают их мысли, накаляя тишину до предела? То, о чем они думали, вряд ли заслуживает внимания, улыбнулась она сама себе.
Всего один шаг отделял всех этих незнакомых покойников от погибшего друга Лотты. Стыд, гнев, горечь не давали Анне спать. И все же мы, сестры, упрямо убеждала она себя. Разве снисходительность и мудрость не самые верные спутники старости? Если мы вдвоем не в состоянии преодолеть непонимание, то что тогда делать другим? Мир навсегда останется во власти нетерпимости, а каждая война растянется, по крайней мере, на четыре поколения. Конечно, Германия, ворочавшая большими деньгами, добилась-таки примирения, однако хватило одного футбольного матча, чтобы понять — старая вражда еще жива.