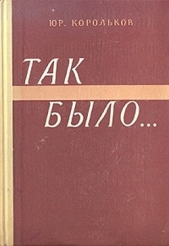Странствия

Странствия читать книгу онлайн
Иегуди Менухин стал гражданином мира еще до своего появления на свет. Родился он в Штатах 22 апреля 1916 года, объездил всю планету, много лет жил в Англии и умер 12 марта 1999 года в Берлине. Между этими двумя датами пролег долгий, удивительный и достойный восхищения жизненный путь великого музыканта и еще более великого человека.
В семь лет он потряс публику, блестяще выступив с “Испанской симфонией” Лало в сопровождении симфонического оркестра. К середине века Иегуди Менухин уже прославился как один из главных скрипачей мира. Его карьера отмечена плодотворным сотрудничеством с выдающимися композиторами и музыкантами, такими как Джордже Энеску, Бела Барток, сэр Эдвард Элгар, Пабло Казальс, индийский ситарист Рави Шанкар. В 1965 году Менухин был возведен королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство и стал сэром Иегуди, а впоследствии — лордом. Основатель двух знаменитых международных фестивалей — Гштадского в Швейцарии и Батского в Англии, — председатель Международного музыкального совета и посол доброй воли ЮНЕСКО, Менухин стремился доказать, что музыка может служить универсальным языком общения для всех народов и культур.
Иегуди Менухин был наделен и незаурядным писательским талантом. “Странствия” — это история исполина современного искусства, и вместе с тем панорама минувшего столетия, увиденная глазами миротворца и неутомимого борца за справедливость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я понял, что скрипка отвечает двум группам по четыре нисходящие ноты двумя группами по четыре восходящие. Отсюда начинается первое восходящее арпеджио, охватывающее две октавы; ранее, перед первым фортиссимо в начальном тутти, ему предшествовал нисходящий разложенный аккорд:

— и снова здесь группы по два такта, четыре ноты плюс четыре.
В следующем фортиссимо представлен отрезок диапазоном в одну октаву, но длиной только в один такт:

Начало сольной партии — первый пример именно такой формы мотива, восходящего на протяжении двух тактов.
Я уже понял, что именно он в большей степени, чем собственно арпеджио, является неотъемлемой частью целого. Не менее важен и ритмический элемент. В отличие от четырех начальных ударов литавр, задающих пульс произведения, первые такты соло — это почти мелодическая линия, хотя и не вполне (так как эти ноты не складываются в характерное, автономное, уникальное целое); но она и не чисто ритмическая, как начальный такт у литавр, более мелодичная. Сохраняя нечто от строгости начальных тактов, она вместе с тем должна воспарять, как на крыльях.
Далее я понял, что имеет значение диапазон первого вступления скрипки, от ля до соль, ибо он определяет структуру начальной фразы концерта:

Эта фраза основана скорее на поступенном мелодическом движении, чем на разъятом арпеджио. Как бы напоминая, откуда она произошла, сольная партия продолжается так:

— и мы снова возвращаемся к начальной теме, продолжению первых четырех звуков:

В процессе размышления об этих восьми первых звуках скрипки в контексте всего Концерта они приобретали все большее значение. Чем глубже я пытался проникнуть в замысел композитора, тем яснее мне становилось, что эти звуки не могли быть иными. В произведениях Бетховена существует тесная связь между гаммой и разложенными аккордами. В медленной части Концерта он пишет заполняющие ноты, оставляя арпеджированный аккорд простым и ясным:

Этот аккорд в первой части выглядит так:

Это тот же самый оборот, а арпеджио служит его каркасом.
Однако понимать структуру — одно, а использовать ее — совсем другое. Я уже обнаружил, что мотив в диапазоне от ля до соль поднимается на столько же октав, на сколько он ранее опускался. Бетховен добавляет третью октаву в форме форшлага:

Форшлаг создает импульс, особого рода скачок — предвосхищение, иллюзию скачка, который еще не произошел. Следовательно, октава тоже органически принадлежит этому произведению; вот как она впервые появляется:

и затем:

и снова:

Поэтому скрипка начинает с октавного хода, который, приводя в конце концов к сольной теме, приобретает следующий вид:

и становится ответом на начальное октавное восхождение на доминанте.
Для себя я вывел три стадии интерпретации: преувеличение, редукция и усвоение всех допустимых отклонений от исходной структуры. В идеале надо играть пассаж так, чтобы он звучал ровно, однако содержал чуть заметные отступления, оживляющие произведение, ту самую “божественную искру”, некий нюанс или неожиданный поворот, который невольно диктует исполнение. Любая интерпретация имеет право на существование, если она не искажает внутреннюю форму произведения, не основывается на чем-то, лежащем вне звуковых соотношений.
Таким образом, памятуя о том, что до-диез и ми в начальном такте сольной партии не так важны, как ля и соль, я пытался легче сыграть два этих вставных звука, словно перекрыть их аркой. Удерживая ля, ускоряя до-диез и ми, потом акцентируя соль — другими словами, сыграв две промежуточные ноты чуть слабее, но сохранив крещендо к соль, — и постоянно сопоставляя эти отступления с основным ритмическим пульсом, я добился динамичного образа: подъем получился не столь величественным, чтобы утратить свой приготовительный характер, и не столь стремительным, чтобы утратить величие самого первого такта у литавр; подъем, чья “ровность” наполнилась жизнью, будучи результатом взаимодействия противоборствующих сил.
Скажете, очевидно? Благодаря этой очевидности я стал менее зависимым от обстоятельств. Распутав загадку формы, вычленив самые малые ее составляющие, я словно бы смог ступить по ту сторону зеркала и сделал первый сознательный шаг во взрослую жизнь, к анализу и синтезу, к осознанному и ясному взгляду. Много лет назад у каждого из фотографов в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, работавших в основном с еврейскими иммигрантами, имелись очки для мальчиков с нормальным зрением, для портретов на конфирмацию. Нееврей поставит знак равенства между физической силой, крепким телосложением, доблестью, отвагой и мужеством, а интеллектуала отнесет скорее к слабакам, в то время как для еврея мужество — это в том числе и проницательный взгляд. Поэтому у каждого посвященного глубина его ума и познаний должна прочитываться на лице. И все мои инстинктивные исполнительские подвиги, благодаря которым я обрел известность, фантазии о воинственных предках по материнской линии не могли сравниться с этим маленьким триумфом, одержанным с помощью интеллекта, когда я смог, без подсказок, осмыслить форму большого произведения. Осталось придать этой найденной форме человечность, вписать в нее формулу своей собственной жизни и смысл прожитых событий, те доводы сердца, которые делают мои отношения с некоторыми людьми такими же предопределенными, неизбежными, как и отношения между звуками. Только найдя внутренний смысл музыки, я понял значение самого себя, наконец, осознанно вступил в те области, которые до этого были для меня данностью, и перестал считать себя капризом природы. Я уловил нечто такое, что поддерживало меня на протяжении долгих и трудных лет, когда жизнь утратила свою волшебную упорядоченность, когда даже скрипка стала чем-то таинственным. Отныне я знал, что могу сам решать загадки.
Перед тем как удалиться в нашу тихоокеанскую твердыню, весной 1936 года мы ненадолго заглянули в Париж, чтобы попрощаться с Европой и Энеску (он готовил к парижской премьере свою оперу “Эдип”), а также дать два последних концерта.
С Хефцибой и Айзенбергом мы записали Трио Чайковского; кроме того, я наконец решился записать некоторые произведения из репертуара Крейслера. Еще задолго до того, в самые романтичные минуты, я все мечтал поведать о своих тонких и рыцарских настроениях через “Прекрасный розмарин”, дабы умилить и обезоружить своих слушательниц. Но до поры не осмеливался, зная, насколько неуловимо то элегантное сочетание искушенности, светскости и легкости, что сформировало Вену и Крейслера. Но вот пятнадцать лет усилий, наконец, вознаграждены. Готовясь к записи, я купил запись “Прекрасного розмарина” в исполнении самого Крейслера, заперся в номере отеля “Маджестик”, слушал, повторял, играл вместе с записью и через неделю решил, что все, я ее знаю. Слушая позже собственную запись 1936 года, я не нашел в ней изъяна. Да, это был Крейслер.
Желаемый результат, наконец, был достигнут, мы не слишком скучали в Париже, однако куда сильнее манила к себе нас, и особенно отца, Калифорния. С 1927 года в Европе папа терпеливо дожидался отъезда. Ради моего будущего он оставил свою работу и продал дом на Стейнер-стрит; покупка земли делала эти жертвы временными, но тем сильнее ему хотелось уехать из Европы. Он указывал на Триумфальную арку и вполголоса восклицал: “Эта могила!” — давая выход своим чувствам, но лишь частично. Во-первых, он мечтал попасть в Калифорнию, во-вторых, предчувствовал, что скоро в Европе разразится катастрофа, и хотел поскорее увезти оттуда семью. Но была еще одна причина. Он хотел, чтобы в 1936 году мы никуда не ездили, не жили по отелям, не давали концертов, не записывались в студии, не подписывали никаких договоров и ангажементов, чтобы весь год мы провели на одном месте, в праздности и в кругу семьи. Тогда еще папа не догадывался, что этим перерывом мы закрываем целую главу нашей семейной истории. Когда я снова, в конце 1937 года, появился на публике, мне исполнился двадцать один год, и в течение следующего года Хефциба, Ялта и я обзавелись собственными семьями, почти одновременно, и родители вдруг лишились цели в жизни, своих детей. Этот годичный отпуск после привычной череды гастролей и путешествий стал последним праздником семьи. Папа назвал его “мамин год”.