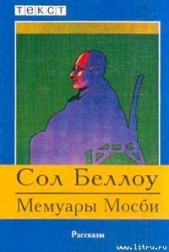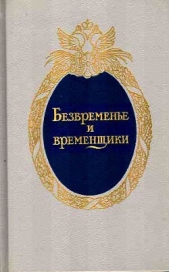Мемуары сорокалетнего

Мемуары сорокалетнего читать книгу онлайн
Сергей Есин — автор нескольких прозаических книг. Его произведения публиковались в журналах «Знамя». «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», в еженедельнике «Литературная Россия» и хорошо известны читателю.
В повестях и рассказах, составивших новую книгу, С. Есин продолжает исследовать характеры современников, ставит сложные вечные вопросы: для чего я живу? Что полезного сделал на земле? Утверждая нравственную чистоту советского человека, писатель нетерпим к любым проявлениям зла. Он обличает равнодушие, карьеризм, потребительскую психологию, стяжательство.
Проблема социальной ответственности человека перед обществом, перед собой, его гражданская честность — в центре внимания писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, Сережа, если по чистой правде, то, может, и смирился, но очень хочется побывать в тех местах, где воевал, где когда-то жил, может быть, кого-нибудь и застану. Но может, все это глупость, старческие психозы, и мы сейчас разберем с тобой вещмешок, я пойду в магазин за продуктами, ты вернешься в больницу, и никого не будем волновать.
— Да ты, папаня, что? Я ведь для тебя и деньги со сберкнижки снял. Когда мне мачеха позвонила, я сразу догадался, что ты не заболел, а захандрил. Я ведь твой сын, немножечко знаю нашу породу. Ты же давно мечтал поехать под Калининград. Там ты танк таранил? Я ведь тоже виноват перед тобой, влез в ваши с матерью взрослые дела. Стыдился немножко тебя. Сын инвалида войны. Ну ранен, дескать, у меня отец. Но зачем, думал, столько рассказов. А ты всегда повторялся, повторялся, рассказывал одно и то же.
— Что было, то и рассказывал.
— Ты теперь молчи, отец, теперь я буду оправдываться. А я попросил пять лет назад своего друга, который работает в госпитале Бурденко, востребовать из архива твою историю болезни. И там все точно, по твоим рассказам. И даже записка командарма в госпиталь. Записка о рядовом водителе танка, о лейтенанте. «Сделайте все, что только можно, — это человек исключительной смелости и преданности родине. Командарм…».
— Это уже последнее ранение, когда мне пришлось таранить танк. Танковый таран. А записка была английской булавкой прикреплена мне на груди, когда я лежал на носилках.
— Я это, папаня, слышал раз двадцать. Хватит тебе вспоминать. Кто думает, что ты выживший из ума, надоедливый, мешающий всем жить старик, бог с ними, им ничего не докажешь. Себе надо доказывать, только себе. Ты должен себе доказать, что ты жив. Человек сам выбирает себе свою судьбу. Ты не волнуйся за Екатерину Борисовну и Наташу. Я все беру на себя. Я, как сын, как врач, готов отвечать за тебя. Езжай. Обойди всех своих товарищей, которые еще живы. А приедешь через месяц-пол-тора, положим тебя в госпиталь. Снимем катаракту… Снимем! Видеть ты будешь!..
Через два дня Алексей Макарович стоял на опушке. Перед ним лежала зеленая сочная равнина с редкими островами, рощицами.
За дорогу у Алексея Макаровича со зрением стало хуже, и эту равнину, и купы деревьев, и несколько хуторских построек у линии горизонта он почти не видел. Но свежий с запахами июльской вызревшей травы воздух был тот же. Теми же были порывы ветра с резковатым привкусом близкого моря. И солнце, падающее на лицо из широких разводьев облаков, так же грело лицо. И Алексею Макаровичу казалось, что он видит всю огромную долину в прежних подробностях. Он видел всю картину боя. Бойцов, мелькающих далеко впереди на подступах к вражеским рубежам. Свежие разрывы и распадающиеся, размытые дымы над воронками. Он видел и строй наших танков, укрытых на выездах между березами. Танкисты стояли возле машин. Молодые лица их были мужественны и серьезны. Алексей Макарович узнавал многих своих знакомых бойцов и офицеров.
И слева от строя танков, чуть выдвинувшись вперед к полю, стояли маршал и офицеры штаба армии и среди них, резко выделяясь комбинезоном, был их командир полка, как и все танкисты, невысокого роста.
А на поле все так же медленно разворачивалась атака. Фигуры бежавших короткими перебежками бойцов становились меньше, поднимались белые хлопья разрывов, и вдруг из-за редких рощиц на горизонте показались коробочки вражеских танков. Настал мой час, подумалось тогда Алексею Макаровичу.
Командующий взглядом подозвал командира полка, командир развернулся на каблуках, побежал к своим танкистам, все мгновенно приготовились лезть по машинам, и в это мгновение командир крикнул:
— Лейтенант Рассудков, ко мне!
Алексей Макарович встрепенулся, ведь как-никак звали его, и, натягивая на ходу шлем, побежал к командиру.
— Товарищ полковник, лейтенант Рассудков по вашему приказанию прибыл.
— Вот что, Рассудков, — сказал командир, — сейчас начнется наша танковая контратака, и у тебя особое задание. Ты посмотри — новые фашистские машины идут. Слыхал о них? Артиллерия здесь не поможет. Один танк должен остаться на поле. Он нужен нам, чтобы знать, как с ними бороться. Нашим инженерам нужен… Ты понял, Рассудков?
— Значит, таран, товарищ полковник?
— Выполняй приказание, Рассудков. — И не успел еще Алексей Макарович подбежать к своей машине, как полковник закричал: — По машинам! Заводи моторы!
Но еще до того как Алексей Макарович сел за рычаги, он сказал своему механику:
— Саша, выходи из машины. В бой не пойдешь! Я один.
— Да не брошу я тебя, Алексей.
— Исполняй приказ!
В щели перископа поле казалось удивительно зеленым. Зеленое разнотравье, кое-где развороченное чернотой разрывов, долго тянулось, пока танки выезжали на позиции.
Ревели дизели. По броне щелкали осколки и пули. «Лишь бы не подбили раньше времени», — подумал Алексей Макарович. Наконец в перископе показалась вражеская машина. Алексей Макарович, меняя скорость и направление, стал подбираться все ближе и ближе, пока невероятная стальная махина не заслонила собой почти весь горизонт. Теперь пора. Алексей Макарович отжал педали, газ, прицелился, приноровился, чтобы попасть не лоб в лоб, а наискосок, в траки, и пошел, пошел, только приговаривал про себя: «Давай, миленький, давай, продержись еще немножко!»
Он очнулся, когда его переложили на носилки. Чей-то голос сказал:
— Возьмите мой личный самолет. Я напишу записку.
Алексей Макарович хотел открыть глаза, но не смог, а только дрогнул ресницами, что, дескать, слышит.
— Ну, что, выживешь, молодец? — спросил тот же властный голос. И Алексей Макарович понял, что обращаются к нему, и хотел сказать: «Выживу», — но не смог и сказал это слово про себя и потом повторял его, пока сознание снова не закрылось: «Выживу, выживу, выживу, выживу, выживу, выживу»…
…Ах, какое зеленое поле расстилалось перед Алексеем Макаровичем в тот день, когда он наконец добрался до него. Было так тихо, так зелено блестела созревшая к укосу трава, и так широко расстилались холмистые дали.
Оно было удивительное — поле. Алексей Макарович отчего-то разглядел на нем все. И фиолетовое мерцание клевера, и шмеля, в невероятно трудной посадке, как вертолет при ветре, приземляющегося на цветок, и белоствольные перелески берез вдалеке, и на горизонте домики селений, и возникшие, видимо недавно, белые силосные башни. Он стоял и чувствовал, как от пьянящего свежего воздуха кружится голова и как, проникая через подошвы стоптанных ботинок, поле вливает в него прежние молодые силы. Уже молодыми стали ноги, горячая волна поднимается все выше, выше, доходит до сердца. Он стоит, одинокий, старый человек, слезы текут у него по лицу, и он как клятву повторяет: «Выживу, выживу, выживу…»
Основная пара
До женитьбы Лешечка любил по пятницам ездить из своего древнего, с кремлем и соборами, но скучноватого города развлечься в Суздаль. В шесть, после окончания рабочего дня, он мыл руки бензином, потом под краном, пользуясь вместо мыла стиральным порошком «Лотос», переодевался, забирался в свои ярко-желтые «Жигули», а уже через два — два с половиной часа сидел где-нибудь в прохладном интуристовском баре. Улыбочка у Лешечки открытая, волосы по тогдашней моде до плеч, глаза голубые, былинные, да еще к этому неломкие, как накрахмаленные, джинсы, поскрипывающие мокасины тоже соответствующего производства, а в бумажнике холодные, новенькие, будто сам он их печатал, одна к одной десятки — в общем, на суздальской площадке Лешенька был неотразим.
Особенно любил Лешенька крутить головы иностранным девицам-русисткам. Разным молоденьким преподавательницам русского языка и студенткам, табунами летом приезжавшим совершенствоваться в произношении и знании «великого, сильного и могучего». Никогда он, правда, не навязывался, но если уж сводил случай, то товар показывал лицом, русскую марку берег: был нежен, мил, занятен и неутомим. И, конечно, никакой грубости. Своих случайных попутчиц покорял широтой характера, былинными глазами, неназойливой внимательностью. После бара и ночной Суздаль покажет, и через поле по сельской дорожке провезет — через «русское поле!», и при луне нарвет васильков и ромашек, и за пару километров свезет купаться в древнюю Кидекшу. Ночь, луна, ночное купание! Чуть зябко, дрожит девичье плечо…