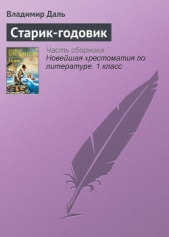Лазалки

Лазалки читать книгу онлайн
Новая книга талантливой писательницы Ульи Новы поможет вернуться в страну детства и вновь пережить ощущение необъятности мира, заключенного, быть может, в границы одного микрорайона или двора с детской площадкой и неизменно скрипучими ржавыми качелями… И тогда город тревог, овеянный бесцветными больничными ветрами, превращается в город лазалок, где можно коснуться ладошкой неба, где серебряный ветер пропеллеров насвистывает в губные гармошки входных дверей, где живут свобода и вдохновение, помогающие все преодолеть и все победить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сам того не замечая, деда, после лекарства ты день за днем постепенно теряешь поле, окутанное дымом, с лесом и рощицей, что смутно угадывались где-то вдали. Ты уже не можешь скомандовать, чтобы то утро вновь заполнило наш бессмысленный, не превращенный ни во что дельное мирный день. Капсула на ночь. И ты забываешь бешеный галоп сквозь дым, в котором со свистом проносятся пули, наугад выхватывая всадников, впиваясь в их плечи, влетая сквозь кители и гимнастерки между ребер, вонзаясь в бедра, жаля лошадиные крупы. Ты бродишь по комнатам с пачкой газет, перевешиваешь брюки, перебираешь галстуки, надеясь где-то там нечаянно обнаружить заветное ощущение галопа, когда ветер превращается в ураган, завивается кольцами в ушах, яростно треплет бурку. И красные капсулы не дают тебе волноваться.
Я не скажу, деда, что теперь ты постепенно упускаешь все, от чего тревожился раньше, и теряешь то, что лишало тебя покоя. Медленно и плавно, танцуя невидимый вальс, память ускользает из давно прожитого, настоящего дня, ненадолго превратившего тебя в командира кавалеристов, в того, кем тебе хотелось бы оставаться всегда. Я не проговорюсь, даже когда, утонув в кресле с грибком для штопки, вдевая толстую нитку в почерневшую иглу, ты будешь уже не совсем уверен, каким звуком сопровождались взрывы, когда снаряды тут и там вгрызались в землю, вздымая пыль и песок, оставляя глубокие воронки. У тебя недоумевающее лицо, ты не помнишь, как взрывы на глазах уменьшали солдат до размера пластмассовых солдатиков и сбивали их с ног. То заветное поле начинает медленно умолкать. Его гвалт, стрекот, гул, крики, пулеметные очереди рассеиваются, забиваются серой ватой, сменяются тишиной мирного и безветренного дня.
«Деда, подожди, не засыпай. Расскажи о Буденном. Помнишь, после боя ты въехал на лошади на второй этаж особняка по парадной мраморной лестнице, в бурке, похожей на решето от пробивших ее пуль? Это был маленький военный парад. Тебя сначала хотели отдать под трибунал, потом простили, пригласили к Буденному и попросили, чтобы ты для него на вечере спел. А еще они сказали, что у тебя волшебный голос». – «Ты мне напомни. Потом как-нибудь расскажу».
Однажды вечером, деда, ты долго сосредоточенно рассматривал рисунок обоев над телевизором. Бабушка, насторожившись, неслышно подкралась, заглянула в комнату. А ты шевелил губами: «Погоди-погоди. Понимаешь, не могу припомнить, что я кричал всадникам». – «Да и ладно, брось!» – «Что ты будешь делать, вылетело из головы. Кричал же я им, звонким голосом. Оглушительно, заставляя небо вздрогнуть. Будоража сердца, зажигая в них ярость. Это были важные, решительные слова. Вертятся на языке, а вспомнить никак не могу». Рассердившись, ты смахиваешь газету с колен на пол. И сидишь целый вечер, ухватившись за край дивана, насупленный, в байковой полосатой пижаме, и шевелишь губами: «Погоди-погоди». Чувствуя, что ворот начинает душить, расстегиваешь верхнюю пуговицу, приглаживаешь большой сухой ладонью мягкие жухлые волосы. Отряд будильников отчаянно тикает и позвякивает вразнобой, мешая сосредоточиться. Ты раскачиваешься из стороны в сторону, шепча: «Что ты будешь делать». И все равно твое сердце бьется размеренно и спокойно – красные капсулы не дают ему всхлипывать и рваться на части.
По дороге за молоком, шаркая мимо школьного забора, все еще пытаясь вспомнить решительные, главные слова, ты теряешь из виду свой эскадрон. Всадники вдруг исчезают на вороных, каурых и пегих лошадях. Не слыша заветного клича, приняв молчание за команду «вольно», они неторопливо разбредаются кто куда. Они уносятся в разные стороны – каждый в свою жизнь, по пути медленно превращаясь в кротких старичков, в пузатых и бесцветных пассажиров автобуса, в грибников с корзинами, полными лисичек. Там, в далеких, мирных краях, твои всадники слезают с боевых коней, теряются в толпе, становясь прихрамывающими седыми пешеходами в трениках, суетливыми разговорчивыми людьми из очереди за подсолнечным маслом, которое разливают алюминиевым половником в бутылки и банки. Их присутствие больше не чувствуется где-то совсем рядом, в трех или четырех шагах. Твоего эскадрона больше нет там, где он всегда тайно поджидал, наблюдая за тобой, превращая обычный, мирный день в кавалерию и подвиг. Кавалеристов больше нет поблизости, настороженных, жаждущих услышать громкую, яростную команду, чтобы броситься в атаку. Ты вдруг остаешься совсем один, растерянный, с бидоном и коричневой авоськой в руке. Но я сдержу обещание и не проболтаюсь про красные капсулы, раз так надо. Мы возвращаемся из магазина, молча. Тебе больше не для кого шутить, спорить с прохожими, расправлять плечи и петь военные песни. Там, где всадники присутствовали всегда, теперь – пустынные дворы, приоткрытая фанерная дверь «Ремонта обуви», футбольное поле, школьный двор с турниками, на которых висят капли дождя. И огромная стенка-лазалка, лестница в небо, на которую ни ногой, потому что тебя нельзя волновать.
Возле подъезда, деда, ты опускаешься на лавочку. Смотришь на окна домов, на приоткрытые двери балконов, на ржавую сетку заброшенного детсада. Лекарство действует, прямо сейчас ты медленно забываешь тех, кто лежал на земле, превращенных пулями в боль. Не в силах вспомнить, как они, постанывая, призывали на помощь запекшимися губами, ты трясешь головой, снимаешь льняную фуражку, обмахиваешься ею. Но память продолжает легко и плавно кружиться в вальсе. Все заволакивает дым забвения, приносящий облегчение, отбирающий тревоги. Вот уже и лица уснувших, окаменевших всадников тают, заволакиваются дымом, сменяются тишиной. И мне так хочется скорее запереться в своей комнате. Схватить карандаш, как рукоятку ножа, осыпать лист кривыми линиями, одновременно раздумывая, как же остановить этот вальс забвения, как вернуть тебе память, деда. Мне хочется безжалостно оставлять на заснеженном поле линии шин, лыжни, натянутые провода, колючую проволоку, телефонные кабели, мелькающих ласточек и стрижей, следы птиц с поломанными крыльями, которые ходят пешком, а еще широченные колеи от проехавших тракторов и противотанковые ежи. Но мне нельзя шевелить пальцами, нельзя сжимать в них карандаши, потому что под серым гипсом, на месте медленно зарастающего перелома находится хрупкое яйцо, в котором скрывается птенец боли, грозящий снова вырваться и превратиться в столикого ангела с распахнутыми до небес крыльями. Я сижу в комнате, расшатываю подлокотник кресла и пытаюсь понять: из чего шьют, как справляют все эти образцовые, непробиваемые Какнивчемнебывала. Мне необходимо разузнать это как можно скорее. За последнее время слишком много тайн неожиданно ворвалось в меня с неба, вползло из земли. Даже ветер подъездов и сквозняк подворотен бессильны развеять их сине-черную димедроловую горечь. Поэтому срочно нужно разузнать, где берут Какнивчемнебывала, раздобыть свое собственное и укрыться. Оно бы помогло мне казаться спокойной и радостной. Оно бы позволило с легкостью скрывать бабушкин секрет про красные капсулы, из-за которых теряют память, историю моего знакомства с ангелом боли, а еще тот случай, на днях, когда я вернулась домой и ты, деда, меня не узнал.
Три часа мы безуспешно сидели в засаде, там, где четыре ясеня сросшимися стволами образуют гнездо и штаб. Каждый смотрел в свою сторону, вел наблюдение. Мне выделили самую простую сторону: ту, где располагались гаражи, кусты акации, угол соседнего дома и его крайний подъезд. Мне выделили сторону попроще, зная, что я обязательно замечтаюсь, засмотрюсь куда-нибудь вбок, подзову щенка или начну думать, как вернуть память деду. Меня взяли в игру, потому что сломанная рука в гипсе, висящая на грязном сером бинте, придавала мне сходство с раненым разведчиком. И создавала ощущение, что все взаправду. Мимо брели старушки с авоськами, мужики со связками реек, школьники с ранцами, дворовые собаки, и больше ничего интересного не происходило. Потом, пошатываясь, проплыли два поломанных, потерявших смысл мужика. У них были рассеянные целлофановые глаза и красные, разгоряченные лица. Они шли в обнимку, что-то выкрикивая. Переругивались и напевали. Потом к нам подбежала Лена с ветерком: развевающиеся золотые волосы, сережки с кровинками рубинов, сиреневое платье на вырост. Подбежала, жестоко расчертила мягкую после дождя землю ребром новеньких босоножек. Прикрыв рот ладонью, взвизгнула: «Тихо, слушайте! Я все узнала, оказывается, старик с рюкзаком исчез». – «Врешь». – «Заткнись и слушай! Вчера та вредная старуха с клюкой, ну, помните, которая как-то согнала нас с лавочки вон там и еще грозила вызвать милицию. – И она махнула рукой в сторону дальнего подъезда, где растут тоненькие гибкие деревца винных ягод. – Да, они шептались вчера с моей мамой, а я подслушала. Старик с рюкзаком раньше сторожил котельную два раза в неделю. И, что бы ни случалось, всегда приходил. Даже пьяный, побитый. А теперь он исчез. Не позвонил, не передал, что заболел». – «Не может быть». – «Может. Его нигде нет. Уже месяц. Или больше. И никто не знает, где он теперь живет, где его надо искать. Обычно он всегда бродил здесь, сидел на остановках или курил возле подъездов. Так ведь. Никто не задумывался, где он пережидает дождь, что он делает в мороз, где встречает Новый год, куда исчезает. Все как-то привыкли, что его можно в любое время нечаянно встретить возле магазина или возле прачечной». Это было правдой. Он всегда бродил мимо карусели, вдоль нескончаемого ряда ржавых гаражей, и можно было не повышать голос, не кивать, не говорить ему «здравствуйте». Потому что он все равно бы не заметил. И не расслышал. Со временем все как-то перестали обращать на него внимание. Пускай себе ходит по дворам, думая, что вокруг него окраинные районы Черного города, из которого нельзя сбежать, где можно только забыться. И даже если его не было видно, то где-то вдали смутно угадывалось знакомое отрывистое постукивание в рюкзаке. Дзыньк. Дзыньк. А теперь старика нигде нет.