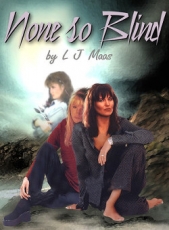Эхо небес

Эхо небес читать книгу онлайн
В центре романа крупнейшего современного японского писателя Кэндзабуро Оэ — история жизни Мариэ Кураки, на долю которой выпадают испытания, заставляющие вспомнить об античных трагедиях.
Повествование ведется от лица писателя К., за образом которого стоит сам автор, а круг тем, им затронутый, отсылает читателя к классическим произведениям европейской и русской литературы, поднимающим важнейшие вопросы бытия.
(задняя сторона обложки)
Кэндзабуро Оэ (р. 1935) — писатель, имя которого уже давно известно не только в Японии, но и во всем мире. Его мастерство отмечено целым рядом высших японских и международных наград, в том числе Нобелевской премией по литературе (1994).
Темы, затронутые в романе «Эхо небес», по-настоящему глубоки и даже болезненны. За внешней лаконичностью стиля и сдержанной авторской интонацией стоит полный изумления и горечи рассказ о жизни молодой красивой женщины Мариэ Кураки. Ее судьба выткана столь причудливо, что читатель вслед за автором застывает в священном ужасе пред волею небес, в которой слышатся отголоски античных трагедий.
Здесь переплетены экзистенциальные мотивы и тема чувственного влечения, взаимоотношения родителей и умственно отсталых детей и вопросы веры, безысходность неизлечимой болезни и размышления о грехе и искуплении. Многочисленные отсылки к русской и европейской классике включают эту книгу в контекст всей мировой литературы, а повседневный человеческий опыт граничит с мифологией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне хочется, чтобы для заключительного кадра фильма, в создании которого я помогаю Асао и его товарищам, была использована именно эта фотография — Мариэ в больничной палате. Думаю, что Асао сделал ее с той же целью. Думаю об индейцах и метисах, о которых рассказывал нам, подвыпив, Серхио Мацуно, — о тех, кто — в ожидании конца света — смотрит вверх, на экран, натянутый под открытым небом.
«Parientes de la Vida» — слова, предложенные Мариэ для названия фильма, означают, если Асао правильно понял испанский и правильно записал их, «родственники по жизни». Стараясь понять их смысл, я пришел к выводу, что она скромно гордилась тем, что местные жительницы приняли ее как свою, как настоящую подругу, разделившую с ними все горести и, не будучи родственницей по крови, ставшую членом общей семьи. Приняв такое объяснение, я все пытался увидеть связь между этим чувством и слабым, но безошибочным жестом — запечатленным на фотографии знаком «V»…
Но совсем недавно, лежа ночью без сна и листая Плутарха в мягкой обложке, я неожиданно наткнулся на фрагмент, где он говорит о печали как о незваном «родственнике, данном нам жизнью», от которого никому не избавиться, неважно, как складывается судьба. И теперь я склоняюсь к этому толкованию. Хотя так или этак, деревенские мексиканки, которые будут смотреть фильм о жизни Мариэ, смогут воспринимать «Parientes de la Vida» в привычном для себя смысле слова.
Вместо эпилога
Две видеопленки должна была передать мне молоденькая сотрудница издательства, возвращающаяся из Мексики, где она проводила новогодние каникулы. Но одну из пленок конфисковали или, возможно, временно задержали на таможне, и в любом случае пока ее у меня нет. Не пропадет ли она бесследно, прежде чем я увижу, как развивается сюжет, запечатленный на полученной пленке? Этот вопрос ужасно меня беспокоит, но от девушки я не смог получить никаких разъяснений. Очень серьезная, лет двадцати или чуточку старше, она была страшно обижена на меня за неприятности в аэропорту и, отказываясь войти, твердила, стоя на пороге: «Меня чуть не арестовали за контрабанду порнографии!»
Держа в руках бумажный пакет, без изъятой второй кассеты казавшийся скособоченным, я мысленно повторял: «Какая глупость! — И, не в силах остановиться: — С чего бы это? Какая бессмыслица!» В общих чертах я представлял себе то, что снято на пленке, увидеть которую было теперь невозможно, и точно знал, что там нет никакой порнографии. Но даже если бы я стоял рядом с глядевшим на экран таможенником, выборочно просматривающим пленку (или — если таковы правила — отслеживающим все: от начала и до конца), то вряд ли нашел бы способ убедительно объяснить это.
На экране появилась бы больничная палата, почти пустая, словно какая-нибудь лаборатория. Женщина, лежащая на кровати, — японка, лет сорока пяти. Через короткое время — затемнение. Подключаться к проводке запрещено, так что использовать софиты невозможно, и когда начинается дневной ливень, все помещение погружается в темноту и даже небо за спиной оператора становится черным. Но камера работает: ведь время ограничено, а нужно зафиксировать и шум дождя, и удары грома, и вспышки молнии, на мгновение освещающие комнату.
В письме, которое я только что получил, Асао рассказывает, что держал камеру на плече, продолжая снимать темноту, а спина намокала от бьющих в окно рассеянных струй дождя; окно приоткрыли, чтобы записывать звук. Стоя в таком положении и дрожа от холода, он вдруг услышал какой-то шорох на невидимой глазу кровати. Он выключил камеру и какое-то время ждал в тишине, но когда дневной свет снова хлынул в палату, — а эти мгновенные перемены погоды типичны для Мексики ранней осенью, — он уже снова держал камеру включенной, и в ее объективе (а также перед глазами всей съемочной группы) видна была откинувшая простыню и абсолютно нагая Мариэ.
Она исхудала так, что похожа была на скелет, обтянутый кожей, — единственной безделушкой, стоявшей у изголовья больной, была вырезанная из жести традиционная мексиканская поделка — скелетик, плещущийся в корыте, — но ее темная гладкая кожа была по-прежнему безупречной. Распростертая на постели, она пальцами левой руки поглаживала кромку пышного куста волос у себя на лобке и, словно желая ослабить смущение молодых людей, троицы неразлучных, знакомых ей с таких давних времен, правой рукой, лежащей на груди, показывала знак «V» и чуть заметно улыбалась. Пока не кончилась пленка, Асао продолжал держать в фокусе камеры это нагое тело умирающей от рака женщины…
Второе видео, как и первое, было цветным, но блеклая монохромная картинка, появившаяся на экране, когда я открутил пленку назад и начал просмотр, отнюдь не делала это очевидным. Изображение было темным и плохо сфокусированным, что наводило на мысль, неужели это все, на что способны Асао и его друзья? Ведь я знал их уже десять лет, но, кроме нескольких фотографий, ни одной их работы так и не видел.
Пока я вглядывался в экран, на фоне тишины, которая, как это ни странно, явственно чувствовалась, проступили мерные звуки ударов — кто-то копал или даже долбил каменистую почву. Потом возникли очертания фигуры, и я смог разглядеть, как раз за разом наклоняется и снова распрямляется торс человека, находящегося где-то вдали, в глубине слабо освещенного кадра. Под сводом затянутого облаками вечернего неба, посреди голой земли, на склоне холма копал яму какой-то мужчина. Камера, установленная внизу, была сфокусирована на мерных — вверх-вниз — движениях мотыги, производимых человеком с такими неестественно неподвижными ногами, что, казалось, они существуют отдельно от этого гибкого сильного тела. Объектив нацелен на взмахи мотыги, но можно видеть и окружающее — скучную и блеклую картину — во всех подробностях, так, словно смотришь на фотографию.
В верхнем левом углу видна стена церкви (верхняя ее часть, крыша и колокольня, за кадром), оштукатуренная, сложенная из камня или кирпича. На мягком склоне, протянувшемся от церкви к зрителю, в темной полосе тени через весь кадр, видны предметы, которые с первого взгляда кажутся останками разрушенных лачуг. Разглядев наконец, что это надгробия, я сразу осознал происходящее.
Кладбище занимает весь склон холма — с вершины, на которой стоит церковь, и до правого нижнего угла экрана. Все это голая земля, почти лишенная растительности, за исключением редких ив, почерневших и искривленных. В стороне от надгробий, на полпути вниз по склону, на площадке, казалось специально выбранной для этого, человек — в одиночку — копал могилу.
Еще ниже по склону, ниже той точки, где мужчина мерно ударяет по земле мотыгой, — еще раз скажу, что это единственная живая фигура на обширном пространстве экрана, — каменистую пустошь пересекает стена, высотой доходящая до бедра взрослого человека. По сю сторону этой стены идет земляная дорога, утоптанная так сильно, что превратилась в глубокую черную борозду, и еще одна камера, скорее всего, установлена на другой каменной стене, расположенной еще ближе, чем эта.
Мужчина по-прежнему машет мотыгой. И по мере того, как яма становится все глубже, каждое следующее движение еще больше подчеркивает неестественность позы: ноги выглядят так, словно были сломаны и потом плохо срослись; колени не гнутся, словно забранные стальными пластинами, и в то же время эти ноги невероятно крупны и сильны. Торс не менее крепок, но в мощных движениях гибкость. Мужчина стоит лицом к церкви, и камера показывает широкую мускулистую спину, толстую шею, крупную, наклоненную при работе голову. Сначала я подумал, что это, вероятно, мексиканец, профессионально занимавшийся борьбой. Облеплявшие череп курчавые грубые волосы еще больше усугубляли это ощущение. Но когда он положил мотыгу и обернулся, словно прислушиваясь к отдаленным звукам, профиль, высветившийся в лучах солнца, пробившегося сквозь вечерние облака, оказался настолько японским, что я невольно сглотнул и вгляделся внимательнее…
К тому моменту, когда стук о землю — топот копыт по грязи и гравию — стал отчетливо слышен, мужчина снова взялся за дело. Камера все еще направлена на него, но перед ней проплывают темные размытые контуры: стадо коров, теснящихся и трущихся друг о друга, проходит, спускаясь, по черной грязной дороге. Изображение на экране прыгает — изумленный происходящим, оператор медленно отступает по стене. Первая сцена заканчивается.