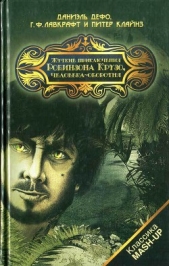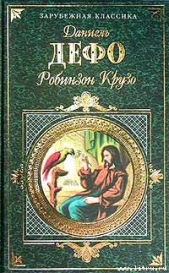Тропик любви
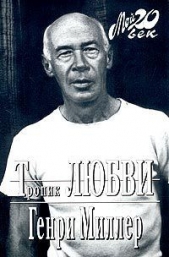
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А еще есть благородные души вроде доктора Леона Бернштейна, который, если я попрошу его, сядет в самолет и отправится навестить какого-нибудь совсем уж нищего бедолагу, нуждающегося в лечении, и не только сделает, что нужно (бесплатно), но еще позаботится, чтобы бедняга имел все необходимое на долгое время выздоровления.
Разве удивительно, что Джон Каупер Поуис не уставал превозносить евреев и негров? Без последних, как я часто говорил, Америка была бы тоскливым, безупречным музеем, до отказа набитым одинаковыми экземплярами с биркой «Белая раса». Без евреев филантропия закончилась бы, не успев начаться. Каждый художник, в Америке-то уж точно, должен быть бесконечно обязан своим еврейским друзьям. И не только потому, что они оказывают ему материальную поддержку. Подумайте, chers confreres, [165] кто среди ваших друзей первым скажет ободряющее слово, прочтет ваше произведение, взглянет на ваши картины, представит их публике, купит (с выплатой по частям, в крайнем случае)? Купит, я говорю, а не увильнет с лживой отговоркой: «Если б я только мог позволить себе такую вещь!» Кто ссудит вам денег, чтобы вы могли продолжать работать, даже когда у него самого нет лишнего гроша? Кто еще, кроме еврея, скажет: «Я знаю, где занять для вас денег, не мучайтесь, предоставьте это мне!» Кто не забудет послать вам еду, одежду и прочее, самое насущное? Нет, художник — по крайней мере в Америке — не может не соприкасаться с евреем, не подружиться с ним, не подражать ему, не учиться у него мужеству, терпению, терпимости, упорству и живучести, которые у этих людей в крови, потому что быть художником — значит вести собачью жизнь, а для большинства евреев жизнь с этого и начинается. Другие тоже проходят через это, но, похоже, забывают, когда достигают какого-то положения, что им пришлось пережить. Еврей забывает редко. И как он может забыть, живя среди драмы, которая повторяется бесконечно?
И вот я думаю о письмах, регулярно приходящих из Палестины от Лилика Шаца, сына Бориса, который стал моим зятем. Лилик несколько лет жил в Кренкел-Корнерсе — низине на полпути из Партингтон-Риджа в Андерсон-Крик. Как-то, еще живя в Беркли, он специально приехал в Биг-Сур, чтобы уговорить меня отпечатать с ним вместе мою книгу методом шелкографии, [166] что мы и сделали, потратив уйму сил и средств. [167] С работы над этой книгой, «Ночью жизнь…», над ее концепцией, изготовлением и продажей (которая стабильно остается на нуле) и началась наша крепкая дружба. И только после его возвращения к себе домой в Иерусалим я познакомился с сестрой его жены, Эвой, и женился на ней. Не встреть я тогда Эвы, сегодня на мне можно было бы поставить крест.
Итак, письма… Да знает всяк, что Лилик, сын Бориса, который был сыном Веселеила, построившего Ковчег Завета, обладал исключительным даром говорить на любых языках. Не то чтобы он лингвист, хотя относительно хорошо знает полдюжины языков, включая свой родной иврит. Ему не нужно знание языка, чтобы общаться с соседом, кем бы тот ни был: турком, арабом, цейлонцем, перуанцем с Анд, пигмеем или китайским мандарином. Метод Лилика заключается в том, чтобы с ходу начать разговор — работают язык, руки, ноги и уши — и развивать мысль, используя все свои подражательные способности: он хрюкает, вопит, пританцовывает, переходит на условные знаки индейцев, азбуку Морзе и прочее, прочее. Все это поддерживается и увлекается вперед разливом симпатии, эмпатии, идентичности, назовите как угодно этот фундамент доброжелательности, добродушия, братства, сестринства, изумительной благорасположенности и понимания, который и составляет его особое наследие. Лилик мог разговорить каменную стену. Впрочем, никакая каменная стена не бывала такой глухой, такой непробиваемой, как некоторые из живых надгробных памятников, к которым он на моих глазах обращался с мольбой, когда ему позарез нужно было продать картину или objet d'art [168] из собрания своего отца. Есть, как известно, человеческие существа, которые при одном упоминании о продающейся картине обращаются в лед. Есть такие, кто каменеет при малейшем подозрении, что к ним могут обратиться с просьбой пожертвовать заплесневелую корку хлеба.
Если Лилику бывало нелегко в Биг-Суре, то и дома, в Иерусалиме, ему в равной степени бывает нелегко. Но по его письмам этого никогда не скажешь. Нет, Лилик — неизменно — начинает с рассказа, как он посиживает на террасе шумного кафе, а какой-нибудь бедняга умоляет позволить почистить ему ботинки или пытается продать ковер, совершенно ему не нужный. (Бывают варианты… иногда ему предлагают высушенный ноготь какого-нибудь святого.) Даже если идет дождь, все равно всегда светит солнце (у него в душе), и он, профессор (cher maitre, cher ami [169]), в особенно прекрасном настроении или потому, что собирается приняться за новую серию картин, или потому, что только что завершил победой сражение с предыдущей. Его письма начинаются с упоминания места и времени, с того, о чем он в данный момент думает, как себя чувствует — страдает ли одышкой или запором или наслаждается теплым пивом. Несколькими строками ему удается передать настроение толпы, описать рынок, кладбище поблизости, снующих официантов, вкрадчивые или жалобные призывы уличных торговцев, беззубых старух, ощипывающих цыплят, шарлатанов с их трюками, запах пищи, грязи, пота и перегара, гвоздичинку, которую он только что, не заметив, проглотил, восхитительный чеснок, что он ел вчера (мы иногда отправляли ему зубчик авиапочтой), яркие краски, что он выдавит на палитру, как только придет домой. Und so weiter. [170]
Каждое второе слово — английское ли, немецкое, русское или французское, написано с ошибкой. Чтобы сознательно исказить или переиначить его так, как это невольно получается у Лилика, нужно быть словесным акробатом. Только грубоватые словечки, такие, как «пернуть», ему удаются, так сказать, на славу. А в его ликующих эпистолах много пердят — и он сам, и окружающие. Израильтяне явно не краснеют и не спешат извиняться, когда «пускают ветры», как принято выражаться в изящной литературе.
«Сейчас, — обычно пишет он, — у нас опять трудности с арабами или у арабов с нами». По дороге домой ему, возможно, придется несколько раз нырять в подъезды, укрываясь от шальных пуль. Каждый раз, как он уходит из дому, его жена Луиза гадает, увидит она его снова живым или мертвым. Но Лилик, по словам всех, не обращает особого внимания на опасность; она стала частью повседневной жизни. Что его интересует, что заставляет его крякать — слово, которое он не научился бы писать правильно, даже если бы ходил в школу целых три года! — это мировые новости. Может быть, для него, читающего на иврите о происходящем в мире, все кажется серьезней, чем это представляется нам. Из того солнечного (даже если идет дождь) кафе, где он посиживает, неспешно потягивая свое теплое пиво, лениво покусывая заветревшийся сыр, мир видится таким, каков он есть наделе — совершенно обезумевшим. Разумеется, может, мы и не ладим с арабами — он никогда не говорит: «с проклятыми арабами», — но возьмите Формозу, возьмите Китай, Индонезию, Россию, Японию, Северную Африку и Южную Африку, Западную и Восточную Германию и так далее, то есть любое место на пыточной решетке, на которой «цивилизованные» народы мира стараются перехитрить друг друга, устраивают пожар, помыкают другими, отталкивают, отнимают, дерутся, наваливаются друг на друга и друг друга при этом обвиняют, глумятся или угрожают, образуют коалиции здесь, выходят из альянса там, разоружают одни народы и вооружают до зубов другие, разглагольствуют о мире и прогрессе и готовятся к массовым убийствам, сулят одной группе подонков наисовременнейшие средства уничтожения и из предосторожности ограничивают арсенал других устаревшими кораблями, танками, бомбардировщиками, винтовками, пулеметами, гранатами и огнеметами, когда-то бывшими эффективными для «спасения цивилизации», но сегодня едва ли более разрушительными, чем шутихи на Четвертое июля, [171] а шутихи могут скоро запретить, даже на празднование Четвертого июля, потому что они опасны для детей, могут взорваться в руках у ребенка, тогда как атомные бомбы, если хранить их в аккуратных штабелях, не причинят вреда и мухе. Как он лукаво говорит, цитируя профессора Сливовица, «аналекты математической логики, пропущенные через компьютеры IBM, становятся не больше шариков мацы». То есть Лилик, прикрываясь фиктивным профессором, хочет сказать, что голос безумия может заглушить призыв к вечерней молитве. Что нам необходимо, как сказал бы сей профессор, так это не усилители в большем количестве и лучшего качества, а редукторы, фильтры, экраны, которые позволят отделить слезливые восторги политика от воркования горлицы… Здесь я должен оставить его, моего дорогого Лилика, в тишине и безмятежности предвечерья, когда матадоры встречают свою смерть, а дипломаты наносят нам предательский удар, сидя за своими ядерными коктейлями.