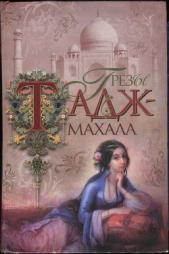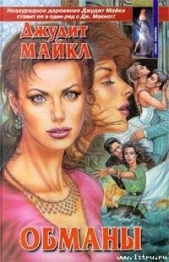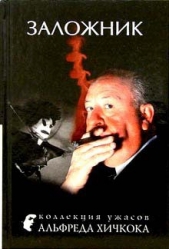Летние обманы

Летние обманы читать книгу онлайн
Новая книга Бернхарда Шлинка, прославленного автора «Чтеца», — это семь пленительных историй о любви под общим названием «Летние обманы». Разговор попутчиков во время многочасового перелета, одна-единственная ночь в Баден-Бадене, короткий курортный роман — станет ли это началом новой жизни или навсегда останется лишь романтическим воспоминанием? Вместе с героями Шлинка читатель открывает разные грани любви, со всеми ее мелкими предательствами и недомолвками, обидами и ревностью, самообманом, ложью во спасение и неистребимой памятью сердца. Снова и снова мы убеждаемся в хрупкости счастья и в стойкости надежды. Написанные в сдержанной, простой и благородной манере, давно ставшей «фирменным знаком» Шлинка, «Летние обманы» — попытка ответить на вопрос, что значит любить, что такое обман и как непросто всегда оставаться человеком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После завтрака они зашагали к морю: он — в джинсах и майке, с кроссовками за плечом, отец — в светлых легких брюках и рубашке, джемпер он повязал на пояснице, сандалии нес в руках. Прошагав вдоль моря по пляжу, добравшись туда, где уже не было песка, они надели обувь. Идти стало легче, и часа через два они достигли Арконы. Шли и ни о чем не разговаривали. Иногда он спрашивал, не пора ли повернуть назад, но отец лишь качал головой.
На мысе они отдохнули и опять же ни о чем не говорили, а потом вызвали такси и обратно тоже ехали молча, глядя в окно. В гостинице отдохнули, вечером отправились на концерт, который на сей раз был устроен в здешней гимназии. Актовый зал оказался переполненным. В тот вечер они с отцом без слов понимали друг друга: оба радовались тому, с каким вдохновенным подъемом играли музыканты.
— Чудесно! В Четвертом Бранденбургском в оркестре играют поперечные флейты, а не продольные. — Вот и все, что сказал отец.
Вернувшись в гостиницу поздно вечером, они слегка закусили, потолковали о погоде — не подвела бы завтра — и решили, что с утра пойдут к белым меловым скалам, потом пожелали друг другу спокойной ночи.
Он прихватил в номер бутылку с остатками вина и допивал, расположившись на балконе. Весь день они с отцом провели вместе и молчали — так же, без лишних слов, дружно работали отец и дочь в финале того фильма. Так, да не так — у них с отцом в молчании ощущалось скорее что-то от недавно заключенного перемирия, а не безмолвная, полная доверия близость. Отец не хотел, чтобы нарушали его покой, ему неприятны вопросы. Но почему же вопросы неприятны отцу? Потому что он не желает раскрывать душу даже перед родным сыном? Потому что в его душе, куда он не открывает ни двери, ни оконца, все уже высохло, умерло и он не понимает, чего, собственно, добивается от него сын? Или потому, что он вырос в те времена, когда еще не стали обычным житейским делом откровенные излияния у психоаналитика, психотерапевта? И у него нет слов или нет умения рассказать о том, что он думает и чувствует? Потому что — чем бы отец ни занимался и что бы ни испытывал в жизни, начиная с двух браков и кончая виражами в карьере до и после сорок пятого, — он впоследствии пришел к твердому убеждению, что, в сущности, ничего не меняется и не о чем тут рассказывать?
Ладно, завтра он опять попробует его разговорить. Молчаливой близости не получилось. Рассчитывать на многоречивую близость опять же не приходится. И все-таки он должен расшевелить отца. Ведь он хочет, чтобы после смерти отца остались не только фотография в рамочке на столе да воспоминания, от которых мечтаешь избавиться.
Вспомнилось, как неумело и нетерпеливо отец учил его плавать, как два раза в год, в воскресенье, после церкви, отец водил их с братом на скучную, унылую прогулку, еще вспомнились форменные допросы, которые отец учинял ему, требуя отчета о делах в школе, потом в университете, наконец — изматывающие душу споры о политике и та нудная морока, когда отец сурово осудил его за развод — еще бы, первый развод в семье. Ни одной отрадной картины, ничего, о чем было бы приятно вспомнить.
Пустота между ним и отцом, пус-то-та. От этой мысли он так расстроился, что дышать стало трудно и защипало глаза. Но слезы не пролились.
7
Лишь когда вдали показались белые скалы из известняка, отец рассказал, что ему уже доводилось дважды побывать на Рюгене: в свадебном путешествии с первой женой, позднее — со второй. И в тот и в другой раз ездили, собственно, на озеро Хиддензее и не было времени сделать крюк, чтобы посмотреть меловые скалы, — слишком далеко. Теперь, наконец увидев их, он радовался.
За обедом отец спросил:
— Какие мотеты сегодня исполняют?
Пришлось сходить за программкой.
— «Не бойся, ибо Я — с тобою» [23], «Дух подкрепляет (нас) в немощах наших» [24], «Иисусе, моя радость» [25], «Пойте Господу песнь новую» [26].
— Тексты знаешь?
— Тексты мотетов? Ха! А ты что, знаешь?
— Да
— Тексты всех мотетов? Всех кантат?
— Кантат — сотни, мотетов совсем немного. Я пел их когда-то в студенческом хоре. «Не бойся, ибо Я — с тобою; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» [27]— прекрасный текст для студента юридического факультета.
— Ты вот каждое воскресенье ходишь в церковь. Просто по привычке или ты действительно веришь?
Вопрос он задал щекотливый, что и говорить. В свое время отец был глубоко огорчен, когда все трое детей, еще не успев по-настоящему вырасти, даже слышать не захотели о церкви, однако своего огорчения он никак не выказывал, разве что смотрел хмуро, когда утром в воскресенье вставал из-за стола и без них, детей, отправлялся в церковь. О религии он с ними никогда не говорил.
Отец откинулся на спинку кресла:
— Вера и есть привычка.
— Нет, она входит в привычку, но она не рождается как нечто привычное. Скажи, как ты начал верить?
Еще более щекотливый вопрос. Мама однажды обмолвилась, что отец, в детстве воспитывавшийся вне религии, обратился к вере, уже будучи студентом. Но о том, как произошло это обращение, она ничего не сказала, а отец никогда даже не упоминал о том, что оно вообще было в его жизни.
Отец откинулся на спинку кресла, стиснул пальцами подлокотники:
— Я… я всегда уповал… — Его взгляд устремился куда-то вдаль. Потом он медленно покачал головой. — Вы должны сами испытать это… Если вы сами не…
— Ну поговори же со мной! Мама однажды упомянула, что ты обратился к вере, когда был студентом. Ясно же, что в твоей жизни это самое важное событие, — так почему же ты ни разу не попытался рассказать о нем своим детям? Ты не хочешь, чтобы мы тебя понимали? Чтобы узнали, что для тебя важнее всего и почему это так важно? Неужели ты не видишь, как мы от тебя далеки? Думаешь, только из-за работы твоя дочь уехала в Сан-Франциско, а сын — в Женеву? Ну сколько еще ты будешь тянуть, когда наконец захочешь поговорить с нами, твоими детьми? — Он все больше волновался. — Разве ты не понимаешь, что детям нужно от отца нечто большее, чем сдержанные манеры и внушительное молчание, да еще эти препирательства из-за какой-нибудь политической проблемы, о которой завтра забудешь? Тебе восемьдесят два, хочешь не хочешь, но однажды ты умрешь. Что же мне останется после тебя? Твой письменный стол, который мне так нравился еще в детстве, и брат с сестрой тогда же решили, что со временем я его заберу себе. Да может, иногда буду ловить себя на том, что сижу в кресле, точно скопировав твою позу, вот так, как ты сейчас сидишь. А какой в этом смысл? Простой: держать на расстоянии собеседника, так же как ты вот сейчас меня не подпускаешь к себе, не желаешь поговорить по-человечески! — В эту минуту он бы все на свете отдал, если бы можно было вскочить и убежать.
7
Вдруг вспомнилась одна история, случившаяся в детстве. Лет десять ему было. Он принес домой черную кошечку — старший брат кого-то из детей, игравших во дворе, собрался ее утопить с другими котятами. Он заботился о кошечке, приучал ее к лотку, кормил, играл с ней. Он полюбил ее, и отец, которому это пополнение семейства совсем не понравилось, все-таки терпел и молчал. Но как-то раз, когда вся семья сидела за ужином, кошечка прыгнула на рояль — и тут отец поднялся из-за стола и небрежно смахнул ее на пол, словно пыль или сор. А ему почудилось, отец смахнул и его самого. Он так расстроился, так огорчился, что встал, схватил кошечку и убежал из дому. Но куда было идти? Проболтавшись три часа на холоде, он вернулся; отец молча открыл ему дверь. Сделать шаг навстречу отцу — это было мучением, таким же, как та минута, когда отец смахнул кошечку на пол. Через месяц у него началась астма, и кошечку кому-то отдали.