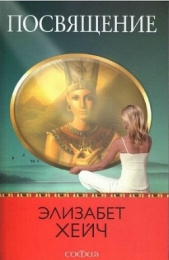Посвящение

Посвящение читать книгу онлайн
В книгу вошли пять повестей наиболее значительных представителей новой венгерской прозы — поколения, сделавшего своим творческим кредо предельную откровенность в разговоре о самых острых проблемах современности и истории, нравственности и любви.
В повестях «Библия» П. Надаша и «Фанчико и Пинта» П. Эстерхази сквозь призму детского восприятия раскрывается правда о периоде культа личности в Венгрии. В произведениях Й. Балажа («Захоронь») и С. Эрдёга («Упокоение Лазара») речь идет о людях «обыденной» судьбы, которые, сталкиваясь с несправедливостью, встают на защиту человеческого достоинства. «Посвящение» М. Ач — повесть-эссе о путешествии трех молодых венгров в Италию; конфликт повести построен по принципу классического «треугольника».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Судаг’ь!
— Сударь, честь имею…
Два коричневых кресла как два приветливых медвежонка. Но дальше моей доброжелательности уже не за что было зацепиться, и она просто так, беспричинно, витала в папиной комнате. Я отворил дверь без звонка и стоял на пороге, один. Папа никогда не запирал квартиру.
(И тогда, раньше. Ой.) Доверие прежде всего, говорил он, Пинта сиял. Вероятно, это нравилось и Фанчико, но он сказал только: формализм. А мама:
— Позер.
— Вахтер, — отозвался папа, но засмеялся просто так, понарошку. Я обнял его за шею, чтобы развеселить. А он, погладив по голове, сказал: ступай к чертям.
Фанчико отругал меня беспощадно:
— Ты примитивен. Можно ли налетать на человека так грубо!
Некоторое время я даже считал, что Фанчико глуп.
Воскресенье. Лучи утреннего солнца узкими полосами вонзались в комнату. Солнечные кинжалы. Папа спал. Он лежал на спине (всегда), подогнув правую ногу, с левой ноги одеяло сползло, золотисто-желтое одеяло, обтерханное по краям. Рот был открыт, подбородок свисал, словно сломался, и от этого щеки ввалились, казалось, вот-вот скулы прорвут бледную щетинистую кожу, мяса нет под нею, украли. Он напоминал мертвеца: кончик солнечного кинжала уже взобрался на адамово яблоко.
— Ой, ну вставай, да проснись же, я вот он, пришел, проснись, зачем ты так! — тряс я его обеими руками.
Когда у него прорезался взгляд, он проворчал:
— Н-да. Единственный сын — и тот блажной.
От беспорядка в комнате захватывало дух, такой беспорядок достигается только стараниями сотворить порядок (при полной убежденности, что цель достигнута).
— Ну, сын, что скажешь? Это я ради тебя постарался. — И папа рукой обвел комнату, словно предлагая полюбоваться красивым пейзажем.
— Очень славно, — сказал Фанчико.
— Добротная работенка, — сказал Пинта.
Папа шутливо дал мне тумака и покрутил трусы на указательном пальце левой руки.
Каждое второе воскресенье я завтракал дважды. Мама хлопотала вокруг меня особенно заботливо:
— Кушай, мой маленький, кушай. Оч-чень сомнительно, что там тебе доведется поесть как следует. Если он вообще дома.
Папа сделал приглашающий жест: из подставки высовывало свой белый задик яйцо — и (это любят повторять стареющие футболисты после хитрого обвода или неожиданного — все реже удающегося — маневра) сказал:
— Этого, шеф, нынче уже не умеют.
И я садился и ел.
А бесчисленные телефонные звонки! Как будто все его приятельницы исключительно по утрам в воскресенье имели доступ к телефону.
— Или к телефонному жетону, — ухмылялся Пинта. И недвусмысленно крутил палец у виска.
— Он… да… он… сейчас нет, — неизменно начинался каждый следующий разговор. А ведь тебе, старик, незачем трусить, я-то вижу тебя насквозь и знаю, что все это, вероятно, делается по уговору и вообще… да, именно так: с каждым следующим звонком я люблю тебя все сильнее.
— Ну-ну, — сказал Фанчико, обладавший чувством меры.
В одной руке у папы трусы, в другой — тепло телефонной трубки. Пижамная куртка висела на плечах криво и помято, на месте пуговиц — ужасные обрубки ниток. Срубленные пуговицы! Свободной рукой он почесывал живот и тихонько постанывал.
— Сейчас я приготовлю тебе великолепное яйцо всмятку, на голод-ный желу-удок это будет великолепно.
На кухне висел густой полумрак. Я переминался с ноги на ногу у папы за спиной, а он спокойно, но ловко принялся готовить нам завтрак. Обо мне он забыл совершенно. Он никогда не замечал по часам, сколько яйцам кипеть, не считал вслух и не бормотал хотя бы «Аве Мария»: он чувствовал время. Ритм кипения. Почти вытесненный из кухни, я наблюдал за ним, прижавшись к кухонной двери. Фанчико, скучавший с Пинтой в коричневом кресле, время от времени кричал мне:
— Кухня мала!
Ну да, вот так: мы вытеснились друг из друга. У меня рандеву с отцом.
Одной рукой папа держит ушко кастрюльки, другой почесывает живот. Пижама, как старая занавеска, болтается и трепещет. Брошенные на стол трусы — ни дать ни взять салфетка на роскошно сервированном столе.
Мы с боем одолели несколько дверей. Дверь в ванную я распахнул, как распахивают книгу. Осторожно ступая (на цыпочках), мы окружили папу, чье белое тело, как обесцвеченная водоросль, колыхалось в наполненной ванне. Очертания тела расплывались: с каждой волной все как-то подозрительно смещалось; впрочем, несколько четких контурных линий в области головы тоже не представлялись достаточно определенными. Однако нам, разумеется, вовсе не приходило в голову, что папино тело в один прекрасный миг вдруг растворится в ванне. На уровне его шеи, по линии талии через ванну протянулся дощатый мостик.
Откуда-то пробился — не без труда — сноп солнечных лучей, и воздух (благодаря пылинкам) стал видимым. Фанчико паясничал, перескакивая с пылинки на пылинку:
— Ага! Ага! Зеркало-то треснутое, верно? Еще как! Это ведь то самое, разбитое?!
С правой руки расположились две пластмассовые мисочки, между ними — помазок. Посредине на доске — зеркало, совершенно целое, в блестящей металлической рамке, слегка отклонившееся назад, как если бы у него болела поясница. Зеркальное стекло заполняло всю рамку, ни щелочки, ни просвета, разве что затуманилось от пара (не пойму, что так забавляло Фанчико). Слева, друг за дружкой строго в затылок, на одинаковом расстоянии лежали тюбики, наполовину закатанные к головке, вроде штанины у калеки.
Папина рука едва заметно шевельнулась (он положил бритву и с полным правом взял помазок), и тут я с чувством некоей бесхребетной симпатии предоставил его судьбе. (Дело в том, что Пинте надоело рассусоливать и он бросил клич: ВПЕРЕД!)
Как уж там оно получилось, не знаю, но только в защечных мешочках у него оказалась вода для полоскания рта, и он, оттопырив губы, прыснул ею в отца. Фанчико веселился сдержаннее: он сбросил в ванну мыло и дважды стукнул по его высунувшемуся было над водой лбу. Я открыл кран и направил туда тоненькую холодную струйку воды. Но это уже не прошло безнаказанно.
— Так вот тебе, вот тебе! — завопил папа, тыкая тюбиком с бритвенным кремом мне в живот, который прикрывала всего-навсего белая рубашка и синий воскресный жилет да еще иногда — полоска то и дело отлетающего в сторону галстука.
(Несколько лет назад, когда я еще способен был носить даже резиновые удавки, мне завязывал галстуки один мой друг, с которым мы поклялись в вечной дружбе. Потом он с родителями оказался в Канаде. И с тех пор существует как затянутый на шее узел.)
— Ах так, молодой человек, мы атакуем, атакуем?!
Он шлепнул по воде своей широкой ладонью, вдоль нее забурлил родничок, превратившийся тут же в фонтан, меня обдало душем.
— Недостает только, — заметил Фанчико (он уже опасался, что вся эта сценка окажется на уровне банального анекдота), — недостает только, чтобы мы, когда придут гости, подкрались к нашему старику сзади и бросили ему под ноги трость.
— Динь-дзинь-дилинь! — резвился Пинта.
Фанчико озабоченно вскинул указательный палец. Летающие в воздухе предметы почтительно огибали его умненькую головку.
— Сперва берется один волосок; он покачивается на правой щеке, на отрезке прямой между (соответствующим) углом рта и нижней точкой мочки уха, на одном уровне с ноздрями. (Ха-ха: один волосок!) Это особых хлопот не доставляет, скорее порождает своего рода гордость. Эмоционально положение упрощается, когда на поверхности подбородка размером с двухфоринтовую монету, равно как и по сторонам от него, но особенно справа, продолжением бакенбард (бакенов?) вылезают все новые волоски. Бритва, этот острый кусочек закаленного металла, теперь уже косит посуху, всюду, где только требуется. Однако затем применение горячей воды неизбежно. С шипеньем — ш-ш-ш — окунаем лицо. Две спаянные ладони — мисочка для воды. Черные волоски мягчеют и, словно опытные и весьма легкомысленные особы, подставляют свои талии. Эпоха белой пены уже не привносит особой радости. — Фанчико брезгливо взял помазок двумя пальцами. — Следует позаботиться также, чтобы квасцы были под рукой. Однако не надо забывать о чувстве меры. Ибо время от времени кое-кому не чужда и самоуверенность.