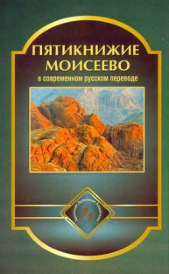Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Дорогой мой Изя!
Мне, наконец, удалось собрать все эти справки, которые пересылаю тебе, благодаря великодушной помощи одного иностранного корреспондента, через Красный Крест. Знаю, что это принесет тебе страшную боль, но я уже говорил, что плоды напрасных надежд горше самых печальных истин. Сейчас это происходит по всей стране, захлестываемой волнами страшных вестей о родных и близких, которые никогда не вернутся.
Не смею давать тебе советы, как поступить, потому что и сам я на перепутье, на дне черной ямы. Колодяч сожжен и разрушен почти полностью — уцелели лишь кирпичные дымоходы. Сегодня наше местечко выглядит как мертвый лес печных труб!
Но люди все же постепенно возвращаются на родные пепелища. Вернулся и кое-кто из наших; я горжусь ими, их боевыми орденами, но дома — увы! — их никто не ждет — никто ведь не уцелел. Приходится все начинать с начала, кирпичик за кирпичиком. Потому что пришел „Шпат шмитта“».
Я оторвал глаза от письма, вспоминая уроки Талмуда: «Шнат шмитта», седьмой — «субботний» год, когда следует оставлять землю под паром, чтобы она отдохнула и покрыла травой своих мертвецов. «Шнат шмитта!» — каждому свое в седьмой год отдыха, а затем — все сначала!
«Поэтому, Изя, я остаюсь здесь, с нашими — сейчас я нужен здесь! Я должен помочь им осознать, что случившегося можно было избежать, оно могло не произойти, и что кроткое примирение, с которым многие восприняли все это, может, и содержит в себе мудрость нашего прошлого, но вряд ли дает надежду на будущее. Я ведь не пророк и не цадик — просто обычный раввин в обычном местечке, каких тысячи. Меня самого раздирают сомнения в истинах и земных, и небесных, но я хотел бы помочь людям осознать смысл случившегося и освободиться от уз смирения и библейских снов — как сделали это наши храбрые маккавеи из Варшавского гетто, вечная им память! Нашим людям принадлежит все прошлое племени Авраамова, но в будущее следует смотреть широко открытыми глазами. По крайней мере, я так думаю.
Зачем я тебе все это пишу? Чтоб ты понял, почему я должен остаться здесь. Но у тебя, дорогой мой, самый дорогой Изя, мужа моей покойной сестры, отца моих погибших племянников, слишком чувствительная, израненная душа и подорванное здоровье. Я не хочу видеть тебя сломленным, как разбитый горшок в седьмой субботний год. Поэтому прошу тебя: пока не возвращайся. Живи где-то там, найди себе место у реки, засей пядь земли и поливай ее — пусть прорастет трава.
Всегда твой — Шмуэль бен Давид.
P.S. Узнал все, что было можно было об Эстер Кац: помнишь, что ее отправили на лечение, но обратно она — увы! — уже не вернется. Не знаю, где ее могила. Все, что с ней случилось — великая несправедливость. Но ее следы на песке моей жизни останутся навсегда!
Ш.Б.»
Странно, но факт: чем сильнее удар, тем тупее боль. Она приходит позже, гораздо позже… Может, природа закодировала это на клеточном уровне, как способ выживания? Ты замечал, мой читатель, что на похоронах близкого человека в голову лезут какие-то мелкие или даже совершенно непозволительные в этот торжественный и скорбный миг мысли? Словно душа сознательно выкручивает пробки, чтобы не произошло короткое замыкание. Страницы содержимого этого большого женевского конверта в беспорядке рассыпались по одеялу моей госпитальной койки, на которой неподвижно лежал и я, уставившись остановившимся взглядом в потолок. Перед моим внутренним взором простиралась серая равнодушная пустыня — без горизонта, без разделительной линии на «верх» и «низ», на «жизнь» и «смерть», на «вчера» и «завтра».
Не знаю, как долго это длилось, но мой черный ангел попытался выдернуть меня из глубин безвременья и повез меня на прогулку у стен крепости. Я подчинился ей как безвольная кукла. Фуникулер, конечно, не работал, но у Эйнджел был приятель в хозяйственной части, он и отвез нас на вершину горы на военном джипе. Джефферсон — да, точно, его звали Джефферсон, был в сто раз чернее, чем Эйнджел, а когда смеялся, его зубы сверкали белизной белее, чем ее медицинский халат. Так вот, этот Джефферсон отвез нас к стенам крепости, но сам остался внизу, на шоссе, у машины — может, по просьбе сестры Эйнджел.
Внизу у наших ног раскинулся зажатый меж хребтами Альп Зальцбург, великолепный царственный Зальцбург, с его дворцами и площадями, церквями и крутыми узкими улочками — отсюда, с высоты, он казался макетом или городом миниатюрных сказочных человечков. Эту сказочную красоту пятнали руины разбомбленных зданий и сожженные крыши высоких домов.
Сестра Эйнджел указала на соседний холм, густо поросший пышной зеленью.
— Видишь тот белый дом за изгородью, вон там, за деревьями? Знаешь, чей он?
— Откуда мне знать! — равнодушно ответил я.
— Стефана Цвейга!
Что-то во мне дрогнуло, разбудив воспоминания о ночах, проведенных за чтением его книг, когда мама Ребекка озабоченно заглядывала в дверь, проверяя, почему я еще не потушил керосиновую лампу.
— Стефана Цвейга… — повторил за ней я. — Он ведь уехал, кажется, в Америку. А где он сейчас?
— В раю для праведников, — ответила Эйнджел, не отрывая взгляд от белого домика. — Давно уже. Впрочем, не так уж и давно, но время в войну сгущается до предела: в сорок втором они с женой покончили жизнь самоубийством в Бразилии.
— Господи, мой Боже! Почему?
— Действительно, почему? И я задаю себе тот же вопрос.
Я глубоко задумался, и после долгого молчания сказал:
— Может, чтоб не получить после войны такое же письмо, как я… Кстати, ты знаешь, что статистически евреи занимают последнее место по совершению уголовных преступлений, в частности, убийств? И первое — по самоубийствам?
— Это что-нибудь означает?
— Может быть. Ведь говорят: сколько евреев, столько мнений, причем — различных. Не знаю, может, еще со времен Вавилонской башни мы воспринимаем собственное инакомыслие и разноязычие как нечто присущее нашему племени, и не стремимся устранять оппонентов путем насилия. Отсюда и заблуждение, что все евреи трогательно едины. Как банкир Ротшильд и выкрест-революционер Маркс, желавший его экспроприировать. Но, с другой стороны, самые глубокие и неразрешимые противоречия у еврея возникают с самим собой, поэтому самоубийство — единственный верный способ избавиться от надоевшего еврейского оппонента, который сидит в тебе, постоянно нудит и противоречит…
— Это не смешно, — сухо прервала мои разглагольствования сестра Эйнджел.
— А я и не стараюсь тебя рассмешить. Просто хочу сказать, что вполне понимаю Стефана Цвейга. И даже думаю, что это единственный разумный выход и для меня.
Она вздрогнула, словно я ударил ее по лицу, обожгла гневным блестящим взглядом — только у людей ее расы такие глаза — и ткнула меня в грудь указательным пальцем.
— Слушай, ты, еврейская сволочь! Я же вытащила тебя с того света, ты это помнишь? Ночами не спала, прислушиваясь к твоему дыханию! Баюкала тебя на руках как ребенка — обосранного, вонючего, вшивого, в блевотине и коросте! И вернула тебя к жизни, чертов ублюдок! А теперь ты откалываешь мне еврейские штучки с самоубийством!?!
— Это мое дело! — крикнул я.
— Ты так думаешь? Тогда иди ты в жопу, засранец!
— А ты заткни свою черную пасть!
К нам ленивой походкой двигался Джефферсон:
— Проблемы? — спросил он через свисавшую с губы сигарету.
— И ты иди к черту, не путайся под ногами! — с яростью крикнула сестра Эйнджел. Парень пожал плечами и послушно вернулся к своему джипу.
И тут Эйнджел вдруг расплакалась, что разом все изменило. Охваченный раскаяньем, я погладил ее по волосам и просительно произнес:
— Прости, я не хотел тебя обидеть. Это Стефан Цвейг виноват.
Она посмотрела на меня сквозь слезы и попыталась улыбнуться:
— Обещай, что не натворишь глупостей!
— Обещаю! — поклялся я.
— И что будешь мне писать? Где бы я ни была?