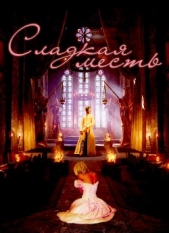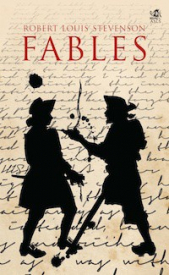Bambini di Praga 1947

Bambini di Praga 1947 читать книгу онлайн
Всемирно признанный классик чешской литературы XX века Богумил Грабал стал печататься лишь в 1960-е годы, хотя еще в 59-м был запрещен к изданию сборник его рассказов «Жаворонок на нитке» о принудительном перевоспитании несознательных членов общества на стройке социализма. Российскому читателю этот этап в творчестве писателя был до сих пор известен мало; между тем в нем берет начало многое из того, что получило развитие в таких зрелых произведениях Грабала, как романы «Я обслуживал английского короля» и «Слишком шумное одиночество».
Предлагаемая книга включает повесть и рассказы из трех ранних сборников Грабала. Это «Жемчужина на дне» (1963) и «Пабители» (1964) с неологизмом в заглавии, которым здесь автор впервые обозначил частый затем в его сочинениях тип «досужих философов», выдумщиков и чудаков, а также «Объявление о продаже дома, в котором я уже не хочу жить» (1965).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Благодарю, — сказал советник и взялся за вожжи.
— А может, вы бы предпочли услышать другое мое стихотворение — «Как шахтерская дочка забыла о своем пролетарском происхождении и поддалась искушению Эроса»? — продолжил было Винди, но тут же опомнился: — Господи, да что же это я все о себе да о себе?! Итак, пан советник, как вы поживаете?
Советник юстиции нажал на кнопку, но не на ту.
— Остановите, остановите! — воскликнул помощник.
Ротмистр взял мел, написал на воротах «двадцать два», потом «двадцать восемь», подвел черту и дважды подчеркнул результат. Постучав мелом по шестерке, он заявил:
— Обтачивать на шесть центнеров в день больше! А что если нам придется шлифовать весь материал?
Тут ворота раздвинулись, и Ротмистр так и остался стоять с мелком в руке, прижатым ко лбу того, кто отодвинул створку.
— Ребята, киношники приехали, — объявил слесарь, даже не стерев мел со лба, — они ищут рабочих, чтобы те пообсуждали текущий момент.
— Пошли! — сказал Молочник и шагнул вместе с бригадой шлифовщиков на солнце; там стоял грузовик, с которого помощники режиссера снимали ведра с известкой, а молодой режиссер указывал на вагонетку с болванками, и оператор с камерой переходил через рельсы.
— Только бы не получилось так, как было, когда они снимали разгар рабочего дня в сталелитейном, — сказал Француз, — оттуда уже все ушли, и киношники звенели ведрами, и сбрасывали с верхотуры листы жести, и с воодушевлением изображали, как все выполняют план.
— Вот здесь и расположимся, — сказал режиссер, — значит, тут немного подбелить стену, там поставить аквариумы с рыбками… вон там будет кусочек природы, там мы сделаем березовую рощицу… ну, а вы, — режиссер указал на шлифовщиков, — вы хотите играть, да?
— Спасибо, — сказал советник юстиции, останавливая подъемник, — с тех пор, как меня выселили из квартиры и чуть не посадили в тюрьму, я поживаю просто замечательно. Вы не поверите, но у меня даже ревматизм прошёл. — И он, за неимением выбора, нажал правильную кнопку.
— Не хотите ли послать им благодарственное письмо? — поинтересовался Винди, стащил рукавицу и подал знак.
— Не хочу… и тем не менее психологически я как-то опростился, — ответил советник юстиции, погружая цепь с блестящими петлями в зеленоватые испарения соляной кислоты, — прежде я разъезжал на такси, а теперь пользуюсь трамваем, прежде я пил «Бернкастелер Доктор» или «Бадштубе», [12] а теперь пью «Поповицкого Козла» и вместо клуба хожу греться в теплушки… Человек вот уже десятки тысяч лет в сущности не меняется. Видите ли, друг мой, я ведь не был ни прокурором, ни адвокатом, я лишь наблюдал и создавал свою двустороннюю картину происходящего у меня на глазах разбирательства. Понимаете, меня до сих пор интересуют и Драйзер, и Пикассо, и Чаплин, но рядом с ними я ставлю свою квартирную хозяйку, которая каждое утро одевает троих заспанных детей и тащит их в ясли, чтобы вечером забрать их оттуда и вернуться с ними домой. И эта моя квартирная хозяйка представляется мне сейчас более значительной, чем голубь мира, «Месье Верду» [13] и «Американская трагедия»… [14]
— Допустим, — сказал Винди, подходя поближе, и серебряная слюна вылетела у него изо рта, — допустим, что эта ваша квартирная хозяйка — коммунистка. Тогда что?
— Она и есть коммунистка, да еще какая, — кивнул советник и, наклонившись, принялся стирать щеткой окалину с металла, — я же, друг мой, из малоземельных, у родителей нас было семеро.
— Хорошо, — сказал режиссер, — значит, вы садитесь на болванки, некоторые непринужденно прислоняются спинами к вагону, один из вас берет карту и будто бы читает ее, то есть водит по ней пальцем, а остальные читают газеты, а потом по моему сигналу начинают оживленно как будто обсуждать прочитанное.
И киношники сняли с грузовика свежесрубленные березки и принялись расставлять их, а режиссер указывал, что эти вот деревца надо направо, а теперь чуть левее, и чуть вперед… стоп.
— Как на Троицу, — сказал Ресторатор.
— Значит, считайте, вы уже спаслись, — отозвался Винди, счищавший с металла окалину.
— Ну вот, — продолжал советник, а кислота тем временем разъедала его резиновый сапог, — сейчас я живу в комнате один и зову свое обиталище подлодкой. И каждый день я приношу с завода деревяшки от разбитых бочек, дощечки, сделанные из русских берез, фанерки из норвежских дубов, оставшиеся от ящиков, в которых сюда возят ферросилиций, [15] а иногда мне попадаются кусочки немецких сосен — это остатки ящиков с никелем… а потом я сижу дома в своей подлодке, по стенам у меня красиво стекает влага, и я сижу, как в сауне, и подкладываю в огонь эти куски норвежских и испанских дубов, дощечки, сделанные из немецких елей, и смотрю в пламя до тех пор, пока оно не охватит все дрова… и я смотрю на раскаленные деревяшки, и в конце концов тепло уходит, а от дров остается только структура невнятной аморфной формы, а иной раз я приношу лишь надписи на дощечках и бросаю в огонь буквы, которые когда-то были исполнены смысла… и я смотрю в открытую дверцу печки и вижу… Fiskaa Norway… Metalwerke Saxonia… Made in Yugoslavia… Meeraker Sverige… я вижу, как лижет их пламя, как рассыпается и идет прахом суть слов… и как все наконец сгорает… До чего же это прекрасно, что я вовлечен в ситуацию, в которой сейчас очутился… сам бы я на такое не отважился… — Вот что сказал советник юстиции Гастерер и поднял голову от зеленоватого пара.
— А что вы делаете по воскресеньям? — спросил Винди, собственноручно просунув крюки подъемника в петли и нажав кнопку.
— По воскресеньям моя квартирная хозяйка одевает троих своих детей, и я иду с ними гулять в парк имени Юлиуса Фучика, мне же оставили хороший костюм, так что когда я выхожу, все сразу понимают — советник юстиции Гастерер отправился на прогулку. Но лучше всего мне жилось с дочерью, когда нас только выселили, у нас была тогда комнатка величиной кушетка на кушетку. Мы называли эту комнатушку часовенкой. Каждое утро мы вычесывали друг у друга из волос известку, и ступни у нас тоже бывали в известке. А посреди комнатки проходила канализационная труба всего дома, так что мимо нас то и дело пролетали нечистоты из туалетов или умывальников. А по другую сторону стены, там, куда мы ложились головами, находилась ванная, краны были как раз напротив наших макушек. Если кто-нибудь поднимался пораньше и открывал кран, то нам с дочкой снился одинаковый сон — будто из наших голов течет вода… и было еще кое-что замечательное в той нашей часовенке! Сразу за другой стеной помещался какой-то научный институт, и огромные машины целыми днями крутили или даже резали гигантские металлические брусья, так что мне казалось, будто наша часовенка — это коренной зуб, в который впивается исполинская игла, представляете, у меня от этого грохота на самом деле разболелся зуб!
Вот что рассказывал советник, шагая по доскам следом за Винди, который вез металл к железной вагонетке.
— У нас уже так много кислоты отмучилось, — сообщил Винди, — что можно съездить за новой бутылью.
— Давайте порепетируем, — сказал режиссер и глянул на часы, — нам еще в Хомутове снимать… итак, вы берете карту, разворачивайте ее, а вы раскрываете газету… а вы, — сказал он и указал на Прокурора, — пока остальные по моему знаку будут наперебой выкрикивать «Американцы, бросайтесь в море!», скажете голосом, полным сомнения: «Если бы так…»
— Ну уж нет, — вскинул руку Прокурор. — На меня и без того много навешали. Мне разве что «Ами, гоу хоум!» поможет.
— Хорошо, годится, значит, «Ами, гоу хоум», — кивнул режиссер. — А сейчас мы сделаем несколько пробных кадров, потому что набело будем снимать только потом. Это будет называться «Полдник на наших заводах».
— Но мы же ничего не едим, — заметил Священник.