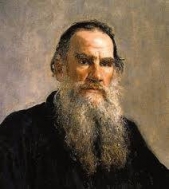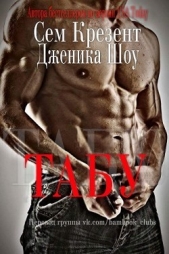Место, куда я вернусь

Место, куда я вернусь читать книгу онлайн
Роберт Пенн Уоррен (1905–1989), прозаик, поэт, философ, одна из самых ярких фигур в американской литературе XX века. В России наибольшей популярностью пользовался его роман «Вся королевская рать» (1946), по которому был снят многосерийный телефильм с Г. Жженовым в главной роли. Герой романа «Место, куда я вернусь», впервые переведенного на русский язык, — ученый-филолог с мировым именем Джед Тьюксбери, в котором угадываются черты самого Уоррена. Прожив долгую, полную событий и страстей жизнь, Джед понимает: у него есть место, куда он вернется в конце своей одиссеи…
Этот роман Роберта Пенна Уоррена в России ранее не издавался
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Розелла рассеянно уставилась на огонь. Большой палец ее ноги продолжал медленно сгибаться и разгибаться, отсветы пламени играли на аквамариновом ногте, и сандалия все так же ритмично покачивалась.
Вдруг Розелла бросила на меня озорной взгляд, и видно было, что она снова готова рассмеяться.
— Знаешь, — сказала она, — у Лоуфорда есть хороший приятель в университете — он бывал у нас раза два этой осенью. В таких толстых бифокальных очках. Так вот, он пишет историю Нашвилла. И Лоуфорд спросил его про их семейную тайну — про одного из своих дедов. Тот был конечно, не из Каррингтонов, упаси Боже, но в родстве с ними. Он разбогател во время Гражданской войны — торговал с янки, когда они заняли Нашвилл, и был тайным совладельцем самого лучшего в городе борделя для офицеров-северян, хотя этим же делом занималась чуть ли не половина города. Все верно, сказал доктор Бербанк — так его зовут, — и однажды на обеде Лоуфорд разболтал эту историю. У них в роду был один генерал, множество губернаторов и сенаторов, и он решил, что хозяин борделя только украсит картину. Он рассказал, как прадед-генерал разорился на государственных облигациях Конфедерации, а после войны его сын вернул семейное состояние, поставляя девок офицерам-янки. Но дальше Лоуфорд, не моргнув глазом, заявил, что этот дед-сутенер на самом деле был настоящим патриотом Конфедерации: в его борделе не было ни одной девицы, которая заведомо не была бы венеричкой, и таким способом он вывел из строя целую дивизию янки, поскольку она осталась без офицеров — все перезаразились. И все это со ссылками на документы и на Хэла Бербанка.
Она не смогла сдержать смеха, а отсмеявшись, сказала:
— Так что Лоуфорд тоже произвел тут фурор.
У меня, наверное, был непонимающий вид, или же я слишком засмотрелся на покачивающуюся сандалию, потому что она стала объяснять:
— Дело не в Каррингтонах. Тут в городе есть и другие, чье богатство было заложено в борделях, а они считают себя аристократами. Нет, главная сенсация состояла в том, что все узнали: прямо здесь, в городе, кто-то день и ночь копается в архивах и собирается все это опубликовать. Как бомба замедленного действия, которая тикает и тикает, и никто ничего не может сделать — остается только ждать, когда она рванет. Подкупить Хэла Бербанка лестью, обедами и приемами невозможно — уже пробовали. Он никуда не ходит и только таращится сквозь свои бифокалы толщиной в дюйм, как мудрый старый ребе, — понимаешь, он еврей, и у него хорошенькая пухленькая еврейская женушка в таких же бифокалах, ты, наверное, ее помнишь — она была здесь. Во всяком случае, Хэл думает только о своей пухленькой еврейской женушке, о своих пожелтевших старинных документах и об исторической правде. Так что бомба все тикает, и я жду не дождусь, когда она рванет.
Она снова стала смотреть на огонь, и по ее лицу медленно проплывали тени каких-то затаенных мыслей. Но вскоре она подняла голову, и глаза ее сверкнули.
— Понимаешь, Хэл — замечательный человек, — сказала она, — и умный, как я не знаю кто, но у него нет ни малейшего чувства юмора, и он может думать только об одном. Если спросить, как движется его работа, он примется рассказывать все в подробностях, а это занимает шесть часов. Я-то ничего против не имею. Я задаю ему вопрос, и он в ответ читает лично мне одной целую лекцию про Нашвилл, а я, словно усердная студентка, время от времени о чем-то переспрашиваю, и, представь себе, получаю уйму полезной информации. Этот Нашвилл…
Она замолчала и целую минуту задумчиво смотрела на язычки пламени в камине. Потом, все так же задумчиво, не поворачивая головы, сказала:
— Лоуфорд иногда поговаривает о том, чтобы перебраться в Нью-Йорк. Ну, понимаешь, в гущу событий.
Она все еще смотрела на огонь, а потом, не отводя глаз, голосом, в котором прозвучала нотка раздражения, словно она разом перекусила какую-то нить, произнесла:
— Только из этого ничего не выйдет.
И через секунду добавила:
— Никогда.
Она подняла голову.
— Понимаешь, он неотделим от всего, что тут есть, а все, что тут есть, неотделимо от него, — произнесла она осторожно, как будто стараясь не сказать лишнего. — Тут он на своем месте.
Я поразмыслил над тем, что она сказала, и, все еще глядя на сандалию, спросил:
— А ты бываешь в Дагтоне?
Сандалия замерла.
— Почему ты об этом спросил?
— Дагтон — это та скала, частью которой мы с тобой оба остались. Так что вопрос вполне естественный.
Она пристально посмотрела на меня.
— И ответ на него — нет. Я никогда туда не вернусь.
— Почему?
— Я росла сиротой, — сказала она. — Ты это знаешь. Так вот, моя тетка — сестра моей матери, которая меня вырастила, — и она, и мой дядя, они оба уже умерли. — Она снова посмотрела на огонь, и на лице ее мелькнуло жесткое выражение. Потом повернулась ко мне. — И это меня устраивает. Вполне.
— Почему?
— А ты сам не можешь сообразить?
— Что касается ее, то я могу кое-что предположить, — сказал я.
— Ну, предположи.
— Она пыталась тебя использовать. Недозволенными способами — скажем так.
— А про него ты можешь что-нибудь предположить?
— Я думал, он с тобой обращался хорошо. Он давал тебе ездить на своей шикарной машине, ведь верно?
— Почему ты об этом заговорил? — Она вдруг встала с подушки и выпрямилась, глядя на меня холодным взглядом. Медленными движениями, похожими на спокойную, рассчитанную ласку, она разгладила свои аквамариновые брюки на бедрах. Брюки, как я заметил, туго обтягивали их.
— Почему ты его ненавидишь? — не унимался я.
— Он позволял ей делать то, что она делала.
Она принялась расхаживать взад и вперед по ту сторону камина. Я все еще сидел в кресле с тигровой обивкой, но она как будто забыла о моем присутствии. Она сбросила сандалии, и я смотрел, как ее ноги с аквамариновыми ногтями ступают по серо-розовому геометрическому узору большого ковра и по навощенным кирпичам цвета жженой сиены, то возвращаясь к камину, где лежали сброшенные сандалии, то снова удаляясь. Время от времени они замирали в неподвижности, когда она останавливалась, чтобы дотронуться рукой до какой-нибудь скульптуры, или до каменной кладки камина, или до одной из висящих на ней акварелей. Остановившись перед фигурой женщины с закинутой назад головой, она легко провела пальцем по ее напряженной шее. Потом вдруг взглянула на меня.
— И вообще очень может быть, что всякое место на свете ничем не отличается от любого другого, — сказала она.
Я хотел сказать, что если так, то я попусту потратил столько времени, переезжая с места на место. Но в этот момент зазвонил телефон, соединявший конюшню с домом. Положив трубку, она повернулась ко мне и сказала, что приехал Лоуфорд со своим агентом и ей надо идти, чтобы устроить агента в его комнате, а мне велела ждать здесь — они придут сюда выпить по рюмке. Уходя, она добавила:
— Да, я так заболталась, что забыла тебе сказать — из литейной прислали целую партию новых работ Лоуфорда. Они все уже установлены — вон там. — Она показала на другую сторону комнаты, позади кресла, в котором я сидел. — Посмотри их. Они очень хороши.
Она вышла, и я слышал, как захлопнулась наружная дверь. Я стоял в полной тишине посреди этого обширного помещения с особым ощущением любопытства, смешанным с чувством вины, — такое испытываешь, когда оказываешься совершенно один в чужом доме. Можно приоткрыть дверь чулана, заглянуть в ящик комода, прочитать письмо, лежащее на столе, стащить какую-нибудь мелочь: серебряный нож для разрезания бумаги или дешевую пепельницу. Конечно, ничего такого не сделаешь, но возможность этого висит в воздухе, словно аромат духов, и слышишь, как бьется твое сердце. Ты как будто наполовину уверен, что вот сейчас обернешься — и увидишь женщину, невинно-обнаженную, с распущенными волосами и выражением нежности и страсти на лице, которая стоит, предостерегающе приложив палец к губам.
Несколько секунд я стоял так посреди комнаты, на серо-розовых узорах толстого ковра, и слушал, как бьется мое сердце. Это напоминало какой-то непонятный сон, из которого я был бессилен вырваться. Потом мне вдруг вспомнилась послеполуденная полутьма и тишина в доме на Джонквил-стрит — там, в Дагтоне, штат Алабама, когда я возвращался из школы, — послеполуденная тишина, и, может быть, один-единственный луч света, пробившийся под опущенной занавеской на окне, и плящущие в нем пылинки.