Уто
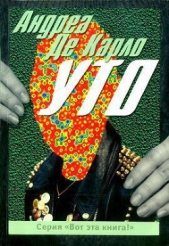
Уто читать книгу онлайн
Роман популярного итальянского писателя Андреа Де Карло – своеобразная провокация.
Его герой – подросток по имени Уто. Он пианист-вундеркинд, но в отличие от большинства вундеркиндов вовсе не пай-мальчик! Попав в американскую семью, поклоняющуюся некоему гуру, Уто не желает принимать ее устои, и последствия его пребывания там напоминают губительное воздействие вируса. Мастер неожиданных концовок, Де Карло не разочарует читателя и в этом романе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марианна включает свет: просторная комната с низким потолком пышет жаром, пол и стены выложены белой плиткой.
– Здесь перекрашиваются в нужные цвета ткани и одежда, – поясняет она, широким жестом демонстрируя мне помещение.
Вдоль стен стоят открытые шкафы, набитые поношенными вещами, рубашками, кофтами, свитерами, брюками всех возможных оттенков от белого до песочного и светло-серого, темных цветов здесь нет, они не поддаются перекраске. В других шкафах одежда уже абрикосового, персикового или рубинового цветов – сочетание новой краски со старой дает разный эффект.
Марианна показывает мне банки с краской, два цинковых бака, где замачивают вещи, предназначенные для окраски, четыре большие стиральные машины для нужд обитателей ашрама.
– Здорово, да? – говорит она.
Но, по-моему, все это совсем не здорово, и, хотя взгляд ее устремлен в одну сторону, думает она совсем о другом: мы попались в западню, сотрясающуюся от вибрации, жаркую как сауна из-за отопительных труб, проложенных под потолком и идущих к самому сердцу ашрама. Повсюду в трубах переливается вода, включенные электроприборы непрерывно гудят, наши магнитные поля находятся в напряженном ожидании; мы в самом центре земли, скрытом и таинственном, где все берет начало.
– А почему вы должны носить именно эти цвета? – спрашиваю я.
– Мы не должны, – отвечает Марианна по обыкновению возбужденно. – Свами все время повторяет, что каждый может носить те цвета, которые хочет. Просто эти благотворно действуют на людей. И потом, они красивы, разве нет?
Я уклончиво киваю головой, я рад, что хоть немного защищен густым черным цветом, несколькими миллиметрами черной кожи.
Марианна начинает вынимать одежду из своих сумок; здесь так жарко, что ей приходится снять свой пуховик, и она остается в шерстяной кофте на пуговицах, в ней она кажется еще более нервной и хрупкой. Она раскладывает рубашки с какой-то неуместной торжественностью, расправляет точно знамена поношенные свитера мужа, и ей явно видится какой-то символический смысл в том, как вся эта мануфактура впитывает в себя мертвенно-бледный свет красильни.
Уто Дродемберг смотрит на нее с расстояния в несколько метров, изнывая от жары в своей кожаной куртке, предчувствуя приближающийся приступ клаустрофобии. Он перебирает в голове все те жесты, слова, интонации, которые довели его до всего этого, он хотел бы только одного: перечеркнуть их, вернуться как можно скорее назад, восстановить то равновесие в семействе Фолетти, которое существовало до его приезда, собрать из осколков его прежний гармоничный, идеальный образ.
Марианна держит в руках белую рубашку Витторио, обстреливая Уто короткими очередями своих взглядов, она вешает рубашку на плечики рядом с другими, идущими в перекраску. Потом вынимает из сумки хлопчатобумажную белую майку, свою собственную, разворачивает ее, стараясь сохранить при этом равнодушный вид, но это ей не удается, в ее взгляде сквозит смущение, словно она обнажается передо мной, напряжение возрастает.
Взгляды в глаза, на губы. Слова, не успевшие сорваться с губ. Жесты, оборванные на середине. Ощущение липкости. Непринужденная скованность. Изнеможение. Чувства, раскаленные как печь, как пышущий жаром котел, все плавится внутри.
МАРИАННА: Тебе не жарко?
УТО: Нет.
МАРИАННА: Как это возможно? Здесь настоящая сауна.
УТО: Мне не жарко.
Она проходит мимо него все с той же белой майкой в руке, бросает ее в один из металлических ящиков. Майка падает секунд десять, она словно парит в воздухе, как при замедленной съемке. Марианна медленно поворачивает голову, длинный, осоловелый от жары взгляд, тягучий, точно растопленный мед. Воздух так плотен, что это ощущаешь на слух, горячая вода переливается в трубах, вдохи, выдохи, глухой стук космического барабана. Марианна снова приближается к Уто, глаза – как вспышки магния, как два голубых костра, испепеляющие, упорные, неумолимые.
МАРИАННА: О чем ты думаешь?
УТО: Ни о чем.
МАРИАННА: Понятно. Думаешь, не думая, как говорит Свами. Ты все знаешь, не так ли?
УТО: Нет. Я ничего не знаю.
Она подходит еще ближе, расширенные зрачки, подрагивающие ноздри, как у умной и нервной лошади.
МАРИАННА: Все ты знаешь. И не думай, что я этого не поняла.
(Она умеет как-то по-особому закатывать глаза, опуская при этом голову; ее лицо принимает выражение одновременно благочестивое и чувственное. Одухотворенность, но с некоторой грязнотцой и накатывающая на тебя как прилив.)
МАРИАННА: Я ведь умею разбираться, что к чему, ты знаешь об этом? Я все понимаю. Ты был послан к нам.
УТО: Да, моей мамой.
МАРИАННА: Она была лишь орудием. Ты прекрасно понимаешь, это было высшее предначертание.
УТО: Какое еще предначертание? Все это из области фантазий. Спустись на землю, пожалуйста.
Ему надо попытаться отступить назад: он переносит центр тяжести на правый каблук, чувствует сопротивление резиновой подошвы, отводит назад левую ногу и отходит, спасается.
Но тянется, устремляясь в бесконечность, изломанная басовая гитарная нота, и возвращаются, не уходят подземные мысли: наверху – ашрам, где все форма и дух, где нет места для низменных инстинктов, но здесь-то, в подвале, для них самое место. Мысли о руках, плечах, спине, о бедрах и груди, о слиянии и соприкосновении – ткань о ткань, кожа о кожу, – об учащенном дыхании, о приливе и отливе крови, о пространстве между двумя телами, о том, как оно сокращается.
Я говорю уже на пути к лестнице:
– Наверное, мы можем идти?
Марианна на расстоянии двух-четырех-шести-восьми метров, она очень бледна, нервна, нерешительна, прошла целая минута, прежде чем она наконец утвердительно кивнула.
Мое влияние на Джефа-Джузеппе начинает сказываться
Я шагаю прямо по снегу, сойдя с той дорожки, которую Витторио, как обычно, расчистил лопатой. Задираю ноги и с осторожностью опускаю их в белую мучнистую массу, с силой выдыхаю воздух, смотрю на облачко пара, пока оно не исчезает, размышляю. Когда я говорю «размышляю», я не уверен, что это правильное слово, потому что на самом деле мысли мои стоят на месте, подпирая друг друга, как мебель в комнате. Мое сознание топчется вокруг них, скользит сверху, но не приводит их в движение, не проявляет, не просвечивает их насквозь. Я даже не знаю, действительно ли это мысли, заслуживающие внимания, или просто спрессованные, статичные ощущения и восприятия. В такие минуты я спрашиваю себя, что это, ум или глупость, заводят меня так высоко и так далеко. Моя мать считала меня гением, но, естественно, она не могла судить меня беспристрастно, мои учителя по классу фортепьяно говорили, что у меня выдающиеся способности, но они имели в виду музыкальную, а не интеллектуальную одаренность. Преподаватели по теории музыки и по другим школьным дисциплинам, напротив, были обо мне не слишком высокого мнения, они считали меня прирожденным пианистом, но отрицали у меня всякую способность к самостоятельному суждению. Не трудно было заметить, как легко я схватываю любую партитуру и как легко варьирую ее, и с каким трудом, напротив, я ориентируюсь в пространстве бесплотных абстракций. Я сам не очень понимал, как мне к себе относиться: то мне казалось, что я обладаю уникальными способностями, а секунду спустя – что я совершенно бездарен, что мне доступно все в пределах и даже за пределами разума – и что я не в силах понять ничего; что передо мной открывается блестящее будущее – и наоборот, что я обречен на беспросветное прозябание. Порой у меня появлялось твердое ощущение, что мне предстоит великая миссия, а потом меня пригвождали к земле мои бессилие и ущербность. Мне казалось, что я святой и что я последний из негодяев. Мне казалось, что я глупец и что я гений. Обычно думают, что глупец или негодяй не осознают себя таковыми, но это не так, я видел таких глупцов и таких негодяев, которые все о себе знали: некоторые от этого страдали, а некоторые себе нравились. Думаю, с гениями и святыми происходит то же самое, только те из них, кто знает себе цену, виду не показывают, те же, кто лишь мнят себя таковыми, цену себе набивают.


























