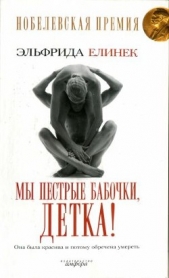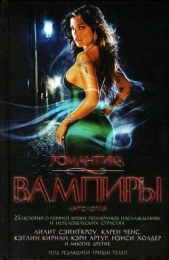Дети мертвых

Дети мертвых читать книгу онлайн
Смешавшись с группой отдыхающих австрийского пансионата, трое живых мертвецов пытаются вернуться в реальную жизнь. Новый роман нобелевского лауреата Эльфриды Елинек — выразительный аккомпанемент этой барочной аллегории — пляске смерти.
«Я присматриваю за мёртвыми, а всякий гладит и почёсывает мои милые, добрые слова, но мёртвые от этого более живыми не делаются…»
Эльфрида Елинек считает роман «Дети мертвых» своим главным произведением, ибо убеждена, что идеология фашизма, его авторитарное и духовное наследие живы в Австрии до сих пор, и она мастерски показывает это в книге. Роман был написан десять лет назад, но остается непревзойденным даже самой Эльфридой Елинек. По словам критика Ирис Радиш, «Елинек сочинила свою австрийскую эпопею. Это — наиболее радикальное творение писательницы по тематической гигантомании и по неистовости языковых разрушений».
Основная литературная ценность романа заключается не в сюжете, не в идее, а в стиле. Елинек рвет привычные связи смыслов, обрывки соединяет по-новому, и в процессе расщепления и синтеза выделяется некая ядерная энергия. Елинек овладела плазмой языка, она как ведьма варит волшебное варево, и равных ей в этом колдовстве в современной литературе нет.
Если Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» напускает на Москву целую свору нечистой силы, чтобы расквитаться со своими недругами, то Эльфрида Елинек делает примерно то же при помощи мертвых, которые воскресают, переселяясь в чужие тела. Елинек творит в лице своих героев акт мести за поколение своих родителей. Она пишет от лица неотомщенных мертвых. Недаром название романа «Дети мертвых» разбито на два смысла: «Дети роман мертвых».
Татьяна Набатникова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако вечность миллионов, которые тоже мертвы, — её никто не видел даже одним глазом. Как они сквозь этот узкий лаз, снабжённый автоматикой самозакрывания, попали в зал, где шли переговоры об их новом воплощении? Почему только трое из нас до сих пор прошли через это испытание? Одной мёртвой души, наверное, маловато, чтобы говорить от имени столь многих.
Где все? Никого, а это может быть не меньше, чем все.
НЕТ, ВООБЩЕ-ТО эти старые женщины, что с такой уверенностью в себе сидят здесь, в зале пансионата «Альпийская роза», не проходили фейс-контроля, — должно быть, их прибило к берегу волной, и они выползли на сушу, выброшенные, как деревяшки плавунов: спасённые, как палочка с приказом «фас!», за которой некому бежать, пустые бутылки на сдачу, за которыми тянется след дешёвой косметики. Но сейчас эти женщины действительно выложены на просушку на каждом углу, заготовка целлюлозы для никого и ничего. Превратившиеся в мумии, едва успев стать матерями; их дети разбили их, как яичную скорлупу, в войну и мир, в преступление и наказание. Немного подзасохла и госпожа Карин Френцель: на солнце (над операционным столом?) ещё некоторое время поблёскивает слизь этого некогда, скользкого морепродукта, а потом он загустевает, и больше мы не получаем от него ни проблеска. Когда-то эти большие пылесосы бушевали в роторе турбины её наслаждений, переворачиваясь, разверзаясь и опрыскиваясь жидкостями; сейчас их следы едва заметны на песке, а вдали уже дочери жадно тянут руки к лесному царю, Эрлкёнигу (это конь, который носит имя автомобиля, потому что он такой быстрый). Мамочки позволяют себе отпуск здесь, в сельской местности, но им не привыкать перескакивать с места на место. Собственно, они — гимнастические снаряды, поскольку единственная дочь уже усиленно тренируется в бросках той плотью, из которой она вышла, чтобы потом висеть на шее, как подарок на рождественской ёлке (даже её новая причёска была произведена на свет горячими щипцами!), пристреливаясь к дому престарелых. Присмотритесь и вы к новым Бригиттам или Петрам, как молодая плоть бьёт в старуху, в своё будущее хранилище атомных отходов! М-да, так живёт молодёжь, по крайней мере; на бумаге; она состоит из одежды, которая страстно бросается в глаза, но эта облицовка не сдерживает того, что обещала. И, пожалуйста, никаких париков, ничего не хватайте вашими железными искусств, челюстями, вашими зияющими ущельями! Неважно, объединится ли единство новой Германии со своим отцом или отмолчится, будет драться или поджигать, — эти сгустки, выблеванные вампирами, со своей стороны вечно юные, теперь могут обрушиться и на нас. О, золотое время юности, для тебя мы всегда раскинем ноги! Где же тот кол, к которому мы привяжем их руки, как лодки, или вобьём его им в сердце? Я боюсь, что и тогда они не обратят на нас внимания в нашем мрачном могильном помещении. До сих пор мы могли всю вину взваливать на других, но теперь — кровь, которая брызжет с глянцевых страниц, это горючее, которое нас, старых Карин-кретинок, не родивших ни этих детей, ни вообще ничего, заранее обесточит. Это минеральное масло больше не умащает нас, полустарцев. Нам не проломить кокон, облепивший нас в качестве косметической маски с тонким слоем гипса и цемента, наши внутренности корчатся и ломают холодец, в котором увязли наши конечности. Никто не пьёт, и мы выдыхаемся. Больница плачет по нам, бедолагам, медицинское страхование стонет под нами, повышая выплаты, этакая мать Мария, которая заламывает руки перед столькими сынами и дочерьми, прибитыми к Красному Кресту и исторгающими, словно порывы ветра, такие предсмертные стоны, что больничные листы дрожат на сквозняке. Мы, те, кого уже не так приветливо ведут, должны брать, что останется после операций на костях. Для зверя в нас, который тоже хочет есть, уже никто ничего не подаст. Он должен наконец в мире упокоиться, положив голову на лапы, дома, где посторонний дух и грозы исключены. Надеемся, что это доброкачественно и нам уже не придётся это вырезать.
Карин Френцель, эта внезапно (и без средств, смазывающих вину) безродная, за это время уже разучилась кровить. Она нерешительно вышла. Судья опустил флажок, — ведь если она выползает в ночь, в долгое лето, когда достают купальники, чтобы в лучшем виде преподнести миру свои тела (высокие и стройные), её время начинает течь вспять — что-то не так, и кровь опять бьёт ключом, как в старые добрые времена. В первый момент она едва замечает, что снова угодила в цикл волокнистых туалетных товаров, в котором навеки упокоились пропитанные до краёв, как вымя недоеной коровы (та даже мычит от боли!), силосные подкладки из впитывающего жидкость пластика, — только куда именно? Кровь ведь должна заменяться! Но чем её заменишь, где взять, чтоб не украсть? Из нейлонового пакета, известно! Закон юности — жаркий ритм, в котором она движется, не трогаясь с места. Для мужчины — в любое время вовремя, для женщины — только раз в месяц. У Карин (55!) бежит по ногам, останавливаясь отдохнуть только на резинках белых гольфов и всё ещё немного приспущенных трусов — и то и другое она из старческого упрямства надевает к своему баварскому наряду. Над всем этим висит на волоске её светлая голова, седовищное разоблачение, над которым развеваются связующие нити всех её союзов и разлетаются старотелые лета, пущенные по ветру, как горные парашюты.
Морщины, которые лицо заработало честным трудом, кажутся побеждёнными, ибо сейчас, когда женщина ринулась в ночь, её мина, в которой раньше отражались и сражались между собой только слабости, разгладилась. Эта женщина заметает в себе все следы. Может, из её могилы вырастет рука (как из могилы ребёнка), чтоб хотя бы знать, где она погребена? Жаль, но я этого не знаю. При всей слабости её крови Карин быстро сбрасывает крышку, которая все эти годы удерживала её под собой. Но мутная чашка, которую ничто больше не удерживает, стала растекаться по краям. Как? А где же музыка и марш? Я слышу: вот пробивается тонкий, бессильный звук насекомого, слышный лишь сородичам, чтобы они знали, на какое место напускаться, поскольку кровь из этой разбитой чаши они уже высосали и хотят ещё. Чтобы хватило и на десерт. Война! Война! На сей раз она начнётся прямо в больнице! Вот только Карин выпьет свой лимонад. Лона раскрываются напропалую. Встаньте, чтобы вечность могла видеть ваше лицо, которое вы с трудом законсервировали, не вас ли тут разыскивали, чтобы выстроилась длинная женская очередь, охотничья добыча, юбки всем на голову, по настоятельной воле отца-главврача, будь ты хоть ребёнок или старуха, ибо Отец дал вам этот облик, чтобы вы, милостивая сударыня, постоянно напоминали ему об объединении мужчины и женщины, которых Он, вообще-то, всякий раз создавал отдельными существами. Короче, неплохо бы вас заменить на более молодой экземпляр, а то верховный бог захочет войти в вас, чтобы своим духом провести ваши органы через рифы. Да, поскольку мужчины всегда хотят чего-то новенького, но история может возникнуть и по многим другим основаниям! Но тоже основана на смене инструментов, которыми в странах, которым уже ничем не поможешь, люди молотят друг друга так, будто им нечего терять — ни субсидий Объединённой Европы, ни экспортных квот.
Свет выпал из двери на парковочную площадку которая была когда-то пышным садом. Его отделили от природы, от этой виртуозки, которая постоянно упражняется, наскрипывая на наших чувствах. Выглянем: там сидит мать Карин, она уютно устроилась и мечет молнии в свою дочь, которая скрючилась рядом с ней в некоем подобии спуда, а под спудом прячется лужа, чтоб в неё всегда можно было сесть. Снаружи поднимается туман. Никто не заметил, что из этой времянки без окон — времени — агломерировалось существо, да прямо из стены, на самом деле непроницаемой, через которую можно пройти разве что задним ходом, окунувшись в воспоминания, где люди забрасывали друг друга нескромностями и жадно зарывались в мясо друг друга, чтобы там перевариться. И пусть, раз они преподносят друг другу сокровища такого порядка! Да, женщины любят своими кишками, здесь, куда их выпустили, вы можете по ним гадать. Вы, верные деревья, так и стоите вокруг, и вас не пугает вид такого обилия крови.