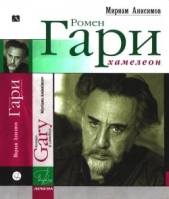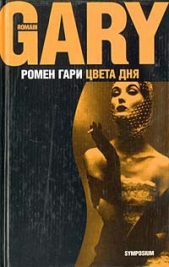Большая барахолка

Большая барахолка читать книгу онлайн
«Большая барахолка» — один из первых зрелых романов самого читаемого французского классика XX столетия. Ромен Гари (настоящая фамилия — Кацев) всю жизнь печатался под псевдонимами и даже знаменитую Гонкуровскую премию получил дважды под разными именами: в 1956 году как Гари, а в 1975-м — как начинающий литератор Эмиль Ажар. Награду, присужденную Ажару, он, однако, принять отказался. Военный летчик, герой Второй мировой, Гари написал «Большую барахолку» вскоре после освобождения Франции от оккупантов. Пятнадцатилетний Люк Мартен, сын погибшего участника Сопротивления, оказывается один в Париже среди послевоенной неразберихи, коррупции, разгула черного рынка и жестоких расправ над теми, кого подозревают в сотрудничестве с немцами. Мальчика берет под свою опеку странный, вечно опасающийся чего-то старик, уже усыновивший несколько беспризорных подростков. В этой новой семье Люка ждут неожиданные открытия, первая любовь и «взрослая» жизнь, которую он строит по образу и подобию гангстеров из американских боевиков.
На русском языке роман публикуется впервые.
+16
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Инспектор остановился, выплюнул окурок и закурил новую сигарету.
— Хватит с тебя? А то тут очень длинно…
Я молчал.
— Ну давай же, выкладывай! — нетерпеливо сказал молодой. — Где Вандерпут?
Он так и стоял у меня перед глазами. Испуганное лицо, шарахающийся от стенок взгляд; каждое слово, каждое движение, которые я видел и слышал за все эти годы, приобретали теперь истинный, обличающий смысл. Не оставалось ни малейшего сомнения. Вандерпут действительно сделал это. Достаточно немножко поворошить прошлое — доказательства на каждом шагу. Вспомнить, к примеру, что он учинил как-то в декабре. Я тогда стал замечать, что старик ходит с таинственным видом. Несколько раз он подступал ко мне, открывал рот, будто хотел что-то сказать, но потом ретировался, так ничего и не выговорив. Еще я заметил, что он стал чаще, чем обычно, запираться в своей комнате. Из-за двери было слышно, как он стучит молотком, что-то пилит — словом, работает вовсю, а иногда даже напевает. Поющий Вандерпут — это нечто особенное. Похоже, он начинал петь, чтобы подбодрить себя, как некоторые свистят в темноте. А он всегда чувствовал себя потерявшимся в ночи и для храбрости, чтобы показать, что ему совсем не страшно, напевал. Срывающимся, ломким, встревоженным голосом. Причем только если думал, что его никто не слышит. Но скоро загадочные звуки в комнате старика прекратились, и мы обо всем этом забыли. Он еще пару раз попробовал заговорить со мной, но дальше замечаний о погоде и о делах беседа не шла. В честь Нового года мы с Леонсом сходили в кино на два сеанса, а потом пришли домой и легли спать. Утром я проснулся от того, что Леонс тянул меня за руку.
— Погляди-ка!
Я встал. В доме было холодно. Мы вышли в коридор. В комнате старика горел свет, делавший его усы еще желтее. Вандерпут сидел на стуле и спал, уронив голову на грудь, с потухшей сигаретой во рту. Плечи накрывал шотландский плед. С подбородка свисала длинная белая борода. На коленях лежал какой-то красный балахон и красный колпак с белым помпоном. А посреди комнаты стояла великолепная елка, она упиралась в потолок и, кажется, собиралась вырасти еще выше — это ее Вандерпут подпиливал и устанавливал. Елка была старательно украшена. На ветках висели краснощекие ангелы, разноцветные шары, засахаренные каштаны; клочки ваты изображали снег. Свечи погасли. На столе стояло блюдо с едва надрезанной громадной индейкой, три бутылки шампанского — две уже пустые, — орехи и пирожные. Накрыто было на троих, и три стула стояли вокруг стола. Наверное, Вандерпут колебался до последней минуты, но так и не решился… Посередине стола я увидел фотографию Вандерпута в детстве — ту самую, что он мне когда-то показывал. На два пустых стула он усадил единственных друзей, которые не могли отказаться от его приглашения: на спинке одного расположился жестар-фелюш, на спинке другого — жилет в горошек с оттопыренными уголками; оба, казалось, тоже спали. Перед каждым стоял полный бокал шампанского.
— Ничего себе! — прошептал Леонс.
Старик спал как убитый, с открытым ртом. Усы дрожали от храпа, белая борода съехала набок, так что стали видны завязки.
— Где Вандерпут?
— В гостинице, но я не помню название.
— На какой улице?
— Да откуда я знаю! Я что, смотрел? Место помню, а уж как улица называется…
— Это далеко?
— На Монмартре.
— Веди нас туда.
Да, он стоял у меня перед глазами. Хриплое дыхание, испуганные глаза. Так было всегда: стоило кому-то пройти по лестнице — и старик замирал, как ящерица. И, спускаясь с сыщиками по лестнице, я ясно видел, как вздрагивает и вытягивается лицо старика, будто он слышит эти шаги за километры. Уже много лет, как сердце его от волнения не билось сильнее, а, наоборот, чуть ли не останавливалось. Врач давным-давно категорически запретил ему волноваться. «В вашем возрасте, месье Вандерпут, и при вашем общем состоянии вам ни в коем случае нельзя ничего принимать близко к сердцу. Так-то, юноша. И, что самое удивительное, у меня это получается. Вот уж двадцать лет, как я перестал волноваться. Я имею в виду настоящее, глубокое волнение. Рябь на поверхности не в счет — от ветра не спрячешься. Но внутри полный покой. Тишь и тина. Ничто не колышется. Хотя на самом деле я сам не знаю толком, что там есть, никогда не хватало духу заглянуть. Что-то есть, это точно. Спряталось в тине. На самом дне. Сжалось в комок. Затравленное. Затаило дух. Шерсть дыбом. Клацает зубами. Брр! И знаете, что это, юноша? Это жизнь, сама жизнь…» Я видел, как его трясет, вот он достал из чемодана плед, закутал плечи. Потом взял яблоко, открыл складной нож и принялся его аккуратно чистить — ему велели съедать по два яблока в день.
— Скажешь, где остановиться, — сказал инспектор.
— Около улицы Шевалье-де-л’Эпе.
— Хорошо.
Инспектор был доволен.
У меня оставалось минут десять — пятнадцать, но думать я не мог, просто видел, как старик сидит в своем номере на кровати, уже темнеет, а зажечь свет он не решается. Вечер теплый, но его знобит, и жизнь внутри него тоже дрожит, и он не может даже угостить ее чем-нибудь горяченьким, своей обычной ромашкой на ночь, не на чем вскипятить воду. Увезти бы ее в Швейцарию да дожить свои дни в покое и комфорте. Он вытащил из чемодана шоколадку и дал ей кусочек. Им нельзя шоколада, но разочек уж ладно, и потом, он питательный, а им необходимо подкрепиться. Старик ощущал, как она в нем волнуется, трепещет слева в груди, терзает ноющей болью почки и простреливает правую ногу. Он даже слышал ее голос. «Говорила же я еще тогда, при немцах, сидишь и сиди себе один, не лезь в чужие дела, так нет же, втемяшилось ему вылезти из норы, сопротивляться, завести друзей… И это в шестьдесят четыре года да при твоих болячках! Естественно, как только на тебя нажали, ты всех и выдал, чтобы спасти свою шкуру. А вот теперь придут да заберут тебя, и что со мной будет?» Сварливый, злобный голос, неужели это та самая жизнь, которая когда-то была молодой и красивой и позировала вместе с ним для открыток: на качелях, на велосипеде, в лодке; они никогда не были счастливы вместе, она ему всегда и во всем отказывала, но он просил только об одном: чтобы она его не покидала; ну и как-никак это была не просто очень старая связь, не просто старая привычка, а, несмотря ни на что, настоящая любовь, по крайней мере с его стороны. «Придут, — визжала она изнутри, — и прогонят меня, и от тебя останется только твоя барахолка». Вандерпут посмотрел на жестар-фелюш. В потемках тот выглядел неясной тенью. «А вы что скажете, друг мой?» Я и раньше не раз заставал Вандерпута беседующим с жестар-фелюшем, он что-то спрашивал — ответов, правда, я не слышал, но сам старик определенно слышал, потому что кивал и шептал: «Вы совершенно правы, я тоже так думаю». Однако на этот раз жестар-фелюш, должно быть, молчал, ужасаясь тому, что сделал его друг. Я ясно представлял себе, как вытянулся на стуле этот старый, безукоризненно честный служака, источающий добродетель каждой складочкой, каждым пятнышком и обоими залатанными локтями, а Вандерпут смиренно поник головой перед праведником и тяжело пыхтит в обвисшие усы. Достаточно мне было закрыть глаза — и я видел его мертвецки бледное лицо рядом с собой в машине. Губы его шевелились — может быть, он молился, взывал к какому-то богу — не богу порядочных людей и полицейских, а к богу-прохвосту, двойному агенту, богу-своднику, богу-Вандерпуту.
— Кажется, здесь, — сказал я.
— Ты уверен?
— Улица та, я уверен. Но надо еще найти гостиницу. Я был здесь всего один раз.
— Так пойдем поищем, — сказал инспектор.
Он остановил автомобиль, и мы вышли. Молодой сыщик взял меня под руку, инспектор — под другую. Со стороны мы, наверное, были похожи на трех закадычных друзей. Время от времени я останавливался, смотрел на какой-нибудь дом, качал головой, и мы шли дальше. После третьей остановки инспектор выпустил мою руку, а его напарник ослабил хватку. Они мне уже доверяли, еще немного — и вообще все будет по-семейному. Машина медленно ехала за нами вдоль тротуара. Так мы дошли до угла улицы Мезон-Нев, где я остановился перед гостиницей «Восток и Нидерланды».