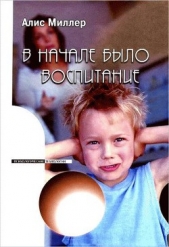Воспитание

Воспитание читать книгу онлайн
Первые 13 лет жизни, 1940-1953: оккупация, освобождение,?обретение веры в Христа, желание стать священником и спор? с Богом, позволившим гибель в концлагере юного Юбера,? над головой которого годовалый Пьер Гийота видел нимб.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он шагает ко мне, берет за плечо, и мы выходим в коридор, затем на улицу и гуляем по территории коллежа до самой ночи, при этом он рассказывает о себе, своем детстве в горах, о том, как трудно ему руководить, и призывает меня впредь усердно работать над своими стихами.
Он велит предупредить на кухне, что я поужинаю с ним чуть позже, в столовой святых отцов. Я ужинаю напротив него, и он сам обслуживает меня. В те времена я вечно голоден, и он говорит, что я должен питать свою поэзию, ведь, чтобы заниматься искусством, необходимо хорошо есть. Шум учеников на лестницах, у дортуаров.
За десертом, ревенным пюре, он говорит об одном моем стихотворении, где я предъявляю Богу социальное обвинение и даже отрекаюсь от Него; он спрашивает, до конца ли уверен я в том, что пишу. Я отвечаю, что для меня Христос, явившийся в историческом времени, не может быть Богом, не говоря уж о Том, кто Его послал. В противном случае, почему Он не пришел в 1933 году и не поменял избирательные бюллетени в германских урнах?
Воскресным утром все у нас дома собираются в церковь к мессе, моя мать в тесной и светлой ванной, где разворачиваются все драмы, разрешаются все кризисы и даются все клятвы, пудрит усталое лицо: ее духи доносятся до меня в соседнюю гостиную, где я решаю остаться почитать, - а затем подняться в свою комнату на чердаке, чтобы писать, - мать окликает меня в приоткрытую дверь и спрашивает, готов ли я; что станет с этими духами, в которых вся ее краса, вся ее доброта, весь ее страх и стремление к потустороннему миру, где обитает ее горячо любимый брат, если я твердо отвечу, что больше не пойду к мессе - ни в этот, ни в любой другой день?
Я иду к ней, в благоухающий свет, и говорю об этом. Слегка отстранившись от меня, она просит сказать, что я до конца уверен в своем решении: это дается ей с трудом, она беспокоится, что скажет мой отец, но оставляет меня в покое, поскольку я сумел подтвердить свое решение: хорошо его обдумать и все-таки отречься от Бога.
Все уезжают под трезвон колоколов.
Больше не верить в То, во что он верил и в чем черпал силу для противостояния величайшему Злу, в То, что озаряет его тело, умирающее на соломе и в экскрементах Ораниенбург-Заксенхаузена, - имею ли я на это право? Если я утрачу веру, это горячо любимое тело померкнет, угаснет, снова станет той гниющей материей, какой его считали палачи, истреблявшие возлюбленный Господом народ, всего-навсего «человеческой единицей», которую несут, везут или тащат к прозекторскому блоку; зато если я избавлюсь от неверия, - а значит перестану быть варваром, - это тело вновь возродится и воссияет.
*
Лето 1959 года, Париж: сбежавший из дома, разыскиваемый отцом, отказавшийся от любых контактов с семьей, где я обрел бы союзников и удобства, работающий курьером в доме мод на Монпарнасе, я еду на мопеде по Северному предместью, с платьями в свертках на багажнике. Отправляясь за ними к портнихе в Блан-Мениль, я хочу проехать через Дранси [287] чтобы посмотреть на остатки концентрационного «социального жилья», фотографии которого мать показывает нам с 1945 года в книге-альбоме о Сопротивлении. Оставив мопед у входа на бульвар, я шагаю между вновь заселенными зданиями: я знаю, что сто тысяч евреев проходят здесь с августа 1941-го по июль 1944 года, - последняя группа, отправленная в Аушвиц, - что Макс Жакоб [288], друг Пикассо в трудные времена, вытащенный из своего убежища в Сен-Бенуа-сюр-Луар, умирает там от истощения 5 марта 1944 года.
В Блан-Мениле, у портнихи, где шьют еще несколько других женщин, я сажусь на прямой стул, стакан с мятой пенится на углу стола, и вздремываю: маленькая девочка влезает ко мне на колени, пристраивает белокурую головку под моим подбородком; шея у нее перевязана - укусила собака.
Следующий год: война в Алжире; если выживу в ней, сохранив жизнь и честь, то не буду пописывать о том, что я знаю про обыденную жизнь, а лучше уж напишу, на краю чего нахожусь, что притягивает меня, пугает и даже лишает чувств.
Звуки машинок «Зингер», стук пяток о педали, оживленный, тихий или запальчивый и даже грубый разговор швей, я еще ощущаю в мышцах и суставах напряженную агонию нашей матери прошлым летом, и мне они кажутся голосами и звуками греческих Парок, что прядут человеческое Время у обители Часов на Олимпе: золотую и шелковую нить для долгих счастливых жизней, черную шерстяную для кратких и несчастных, черно-белую шерстяную для обычных, со счастьем и бедой вперемешку.
Невзирая на зверство, остатки которого я видел и которое должно было бы остановить Время, некое время все же длится, его следует прожить с надеждой, наполнить трудами и, если возможно, потомством.
Со мной всегда Гёльдерлин, с тех пор как я открыл его благодаря Роберту Шуману в конце 1955 года: тогда я прошу мать, которая с детства в Верхней Силезии, еще немного австрийской, знает и чуть-чуть говорит по-немецки, прочитать мне в моем двуязычном издании «Ап die Parzen»/«К Паркам», - но она отказывается: немецкая речь исходит из ее груди лишь в музыкальном сопровождении.
Сквозь дремоту, на внутренней, черной стороне моего лба, всегда именно эти стихи:
Фридрих Гёльдерлин
К Паркам