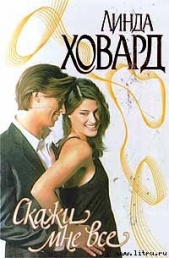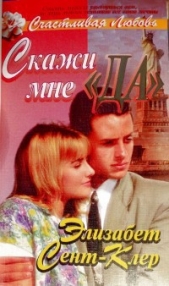Первые гадости. Роман про любовь и глобальную недоразвитость

Первые гадости. Роман про любовь и глобальную недоразвитость читать книгу онлайн
Ромео и Джульетта конца 80-х прошлого века. Она – дочь секретаря райкома, он – будущий лингвист из семьи простых интеллигентов. Ей в руки случайно попадает его паспорт, она мгновенно влюбляется и начинается история любви со страстями, ссорами, ревностью, высокими чувствами и низкими поступками.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Согласно характеристики, предъявленной Аркадию в руки, правдивость которой заверил «треугольник» ЖЭКа, Макар Евграфович был «активен в подметании, снегоуборке и поливании газонов, несмотря на преклонный возраст». Но сам он уважал себя по другим статьям.
— Во-первых, я ровесник века. Во-вторых, еще до культурной революции я купил два будильника и сделал открытие, что если просыпаться в два и четыре часа ночи, то высыпаешься гораздо быстрее.
Высвободившееся ото сна время Макар Евграфович — человек-самоучка, не имевший образования на бумажке и потому работавший там и тут, так и сяк до самой пенсии, а на пенсии ушедший в дворники скорее от скуки, чем к существованию в прожиточном минимуме, и скорее ради раздумий на свежем воздухе, чем для общественной пользы, — убивал на писание историко-философских трактатов в стол, поначалу — в рабочий, а потом и в кухонный.
Многие подозревали, что занимается он чем-то тайным, заговорщицким и, может быть, даже недостойным советского человека, да и сам Макар Евграфович — отпетый чихала — предлагал к этим подозрениям поводы. Например, возвращая кружку на прилавок, он объявлял в полный голос: «Спасибо Советской власти за этот квасок!» — а выходя из магазина, говорил: «Спасибо Советской власти за эту мороженую рыбку!» Впрочем, однажды представитель райсовета, близко подошедший к очереди, ответил ему. «Говна не жалко», — и Макар Евграфович оставил свои благодарения. Но слух уже вырвался, побежал по улицам от знакомых к знакомым, будто представитель рассекретил в дворнике антисоветчика со стажем. «Антисоветчику» бы затаиться хоть на час, хоть на два, он же, наоборот, увидел толстую бабу, ругавшую кавказца подлыми словами за привольную жизнь цветочного торгаша, и сказал: «Если бы грузины очень любили березовую кашу, а в Нечерноземье разрешили бы растить березы на приусадебных участках, то и на Тбилисском рынке, я думаю, стояли бы ваши родственники с поленницами». — «Мои родственники родиной не торгуют! Не тот товар», — ответила баба. Тут уж и до фом неверующих дошло, что Макар Евграфович — отпетый антисоветчик, может быть, даже потомственный.
С горя, непонятый простым народом, пошел он в пивную и рассказал мужичкам совсем неправдоподобную историю, будто выстрел, который в научной литературе часто называют залпом, по Зимнему дворцу произвела на свет не «Аврора», а «Императрица Мария». «Аврора» же погибла на Севастопольском рейде в пятнадцатом году. Рассказал ради прикола, без доказательств, и мужики чуть не поверили ему ради прикола и без доказательств, но стоявший тут же спившийся на профсоюзной работе интеллигент, рассуждая вслух, объяснил народу крамольность мысли: «Одно дело, когда символ восстания — «Аврора», она же заря, она же провозвестница светлого будущего, и совсем другое, когда — «Императрица Мария», она же член царской семьи и близкий друг царского правительства». Мужики сразу разошлись из пивной, все равно уже закрывшейся, не желая выступать свидетелями ареста Макара Евграфовича, которому было все равно, что болтать и где сидеть.
— А я в страхе побежал на прием к первому секретарю, надеясь подписать допуск в спецхран и объявить себя собирателем народного фольклора: единого — по содержанию, но своеобразного — по национальности. В двадцатых годах я знал несколько матросов и даже помнил их фамилии с точностью наобум. Им-то я и хотел приписать авторство идеи: будто они ночью бегали по кораблям с ведром краски и замазывали буквы, стараясь ввести в заблуждение царских адмиралов.
Подъехал экологически чистый и совершенно грязный троллейбус, в салоне которого Макар Евграфович смог не только говорить, но и слушать Аркадия.
— Разве можно сомневаться в чем-либо открыто? — попенял юноша глубокому старику.
— Сомнение, молодой человек, — это когда мы с вами пришли к одному мнению, — сказал Макар Евграфович филологический выкрутас.
— Вот уже я и в чем-то виноват, — испугался Аркадий. — А мне коммунизм строить.
— Ничего не бойтесь, — сказал Макар Евграфович. — Кто решится ставить подножку людям, которые бегут на месте? Даже не бегут, а трясутся.
— Все равно вы откровенны, как зеркало, а я малоопытен до ошибок юности, — сказал Аркадий.
— Из всякого сумасшествия надо извлекать свои достоинства и радости в жизни.
— Но я же не сумасшедший!
— Материальная неволя вас рано или поздно им сделает.
В такой беседе, где один озирался по сторонам, а второй рубил то, что считал правдой-маткой-болтовней, они добрались до комнаты Макара Евграфовича в коммунальной квартире и сели пить чай, продолжая разговор, но теперь уже о злоключениях Аркадия, которые тот разнообразил сведениями о себе: что десятиклассник, что хочет стать этнографом и изучать народы, уже исчезнувшие с лица нашей страны, что свою жизнь он представляет радужной в черную крапинку, что…
Каждому «что» Макар Евграфович ухмылялся, но вместо «хм» произносил «бульк», потому что пил чай из блюдца.
— В случае с паспортом и дочерью первого секретаря я помогу вам завтра, — сказал он наконец. — В остальных же случаях почтенный возраст не позволяет мне заглядывать вперед, хоть я и могу, вам поможет время и мои рецепты из сегодняшнего дня.
— А вы знакомы с Победой? — спросил Аркадий и покраснел ушами.
— Нет, но она не сможет попасть в школу, минуя мой участок. Завтра я встречу ее с метлой и отведу в дворницкую, где уже будете вы.
— Но как вы ее узнаете? — спросил Аркадий.
— По портфелю из крокодиловой кожи, — объяснил Макар Евграфович.
— Она держит мой паспорт под подушкой, — пожаловался Аркадий.
Вдруг пришел Никита Чертиков. Вдруг — потому что сначала угодил к соседям, ошибившись у входной двери числом звонков, и в комнату глубокого старика вошел, как к себе домой, уже в тапочках.
— Я извиняюсь, товарищ пенсионер и дворник, — сказал Никита, — я яйцо принес, то самое, недостающее. Я больше не буду.
— Вот, Аркадий, полюбуйтесь, — сказал Макар Евграфович. — Перед вами человек, который не умеет считать до десяти.
Доверчивый юноша принял слова за шутку, подошел и пожал Никите руку, как старому другу.
— А ты умеешь? — спросил тот Аркадия…
В квартире Чугуновых было так богато, что приходящая домработница мыла полы махровым полотенцем и вытирала пыль шелковыми платочками. Сын же Трофим — младший брат Победы, — несмотря на богатство, удерживался в черном теле и с трудом существовал на карманные деньги, потому что Василий Панкратьевич хоть и был первым секретарем, хоть и ездил по фабрикам да заводам, хоть и говорил там громко пустые фразы за большие деньги, но еще помнил себя маленьким отчетливо, помнил юным тружеником и помнил, как труд ему в жизни помог стать большим и бесполезным человеком.
Раньше, проводя детство с футбольным мячом, Трофим не чувствовал душой и телом финансового гнета. На откупную пачку сигарет для старшеклассников, ежедневное мороженое и каникулярные набеги в кино хватало, об остальном же молодая его головушка не кручинилась, другими прихотями не мучилась. И жил юнец под родительским крылом, не напрягаясь, жил не тужил, жизнь прожигал, пока первого сентября в девятом классе судьба не свела его за одной партой с второгодницей Ксенией по кличке Сени, потому что разные хулиганы везде, где только можно, подтирали буквы ее имени, как они же делают это в электричках, превращая надпись на стекле «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ» в «НЕ П…ИС…О…ТЬСЯ».
Трофим, разумеется, ходил в ту же престижную школу, что и Победа, с тем же наклоном и тем же апломбом перед средними школами, а второгоднице Сени, конечно, не было в ней места, но ее папа Семен Митрофанович Четвертованный — почетный шахтер города Донецка, никогда, впрочем, не навещавший родину своего почета, — полюбил эту школу крепче дочери, часто ходил болтать с завучем и говорил, будто не беда, что Сени плохо зубрит английский, зато он почетный шахтер и знает два португальских. Родители нравились завучу больше учеников, поэтому он им безоговорочно верил.