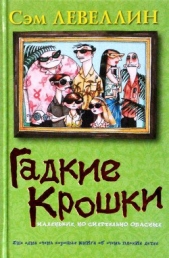Жак Меламед, вдовец

Жак Меламед, вдовец читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но разве ты там в школу не ходил? В речке не купался? Рыбу не удил? По деревьям не лазил? В конце концов — не воевал? По-моему, даже "За отвагу" получил…
— И вышку в придачу. Хорошо еще, сволочи, приговор в исполнение не привели. Вовремя ноги унес. Появись я при той власти, мне бы показали не речку, где я рыбу удил, не деревья, по которым я в детстве лазил, а вздернули бы на первом суку...
— То было при той власти. А сейчас литовцам наплевать на то, что ты из партизанского отряда в Польшу деру дал. По-ихнему, ты, брат, даже подвиг совершил — с оружием в руках от советских оккупантов улизнул. Такие, как ты, там сейчас в почете. Говорят, они там нашим по первому требованию копии делают.
— Копии чего?
— Доносов, допросов, приговоров. За плату тебе твою папочку на тарелочке с золотой каемочкой принесут. Поехали, Жак... За твоими птичками кто-нибудь присмотрит — моя Сара или Хана-Кармелитка… Когда ты дни и ночи напролет у постели Фриды в больнице дежурил, ни один воробышек на Хану не пожаловался.
— Не пожаловался, — подтвердил Жак.
— Не хочешь один — давай вместе. Малость от нашей жары и ежедневных похоронных новостей остынем. А я тебе за носильщика буду и за фотографа.
— Подумаю, — пообещал Меламед. — С Липкиным посоветуюсь.
Было время, когда мысль о поездке на родину ему и в голову не приходила. Литва была для него краем, исчезнувшим из Вселенной; все, что мог, Жак безжалостно выкорчевывал из памяти. Правда, отчий край изредка всплывал из небытия только в его снах. В них против его воли из-под крови и пепла вырастало родное местечко — Людвинавас: одинокое и невесомое дерево возле хаты — не то разлапистый клен, не то усыпанный пупырчатыми плодами каштан, который в ветреную погоду колокольно гудел и стучался ветвями в ставни; серебряной подковой в камышовом обрамлении посреди лугов мелькало озеро; нырял в дремучий бор, кишевший грибами, извилистый проселок. Там, в этих сумбурных снах, жили отец и мама; за окнами кудахтали куры; на отцовском столе тикали принесенные в починку часы; на чердаке голубятника Гирша Цесарки ворковали сизари и витютени; в поле стрекотала жнейка, клекотали аисты, только его, Жака, в этих ночных видениях не было, как будто он и на свет не родился.
Еще совсем недавно Меламед и мысли не допускал, что все вытравленное и забытое в нем вдруг оживет и воплотится в смутное желание вернуться на круги своя. Приехать и на каждом шагу с опаской и презрением оглядываться, не идут ли за тобой полицаи с белыми нарукавными повязками, уведшие с Мясницкой в гибельные Понары его родителей, или гэбэшники, приговорившие его к расстрелу. Он еще пока, слава Богу, в своем уме, готов ехать куда угодно — в Гонолулу, в Венесуэлу, в Амстердам к своим двухметровым голландским невесткам, которые ни слова не понимают на иврите, но в Литву — к этому он совершенно не готов. На протяжении более полувека он жил, словно Литвы вообще никогда не было в его жизни — не было ни его родного местечка, ни полуподвала в гетто на Мясницкой, ни трупного оврага под Вильнюсом…
Пока двери в Литву были наглухо закрыты на железный запор, Жак и слышать о такой поездке не хотел: в то время его никто туда ни живым, ни мертвым заманить бы не мог. Но когда Горбачев, этот казак с отметиной на черепе, их неожиданно и безопасно распахнул перед беглецами и изгнанниками, Литва снова возникла в разговорах и спорах не как оголенная не поддающаяся заживлению рана, а как живое существо, и в непоколебимой решимости Жака, старавшегося все стереть и забыть, появились первые трещины. Меламед, правда, и раньше не умирал от тоски по ней, но и не утолял, как иные, свою боль анафемами — пускай-де там все от мала до велика провалятся за свои грехи сквозь землю и сгорят в аду; не кинулся он сломя голову и вслед за некоторыми своими ушлыми земляками в турагентства за билетами, не стал в спешке паковать чемоданы и собираться в дорогу, а спокойно продолжал подкармливать своих вечно голодных пташек, не помышляя о скором свидании с Литвой. Однако чем ретивей Жак сопротивлялся обуявшим литваков соблазнам, чем насмешливей относился к полувосторженным впечатлениям тех, кто возвращался домой, в Израиль, со своей, как он по-красноармейски ее называл, "бывшей в употреблении" родины, тем больше его тяготили и эта его непримиримость, и это упорство. Наверно, упрямец до гробовой доски стоял бы на своем, если бы в один прекрасный (для него вовсе и не такой уж прекрасный) день не обнаружил в почтовом ящике письмо. Омри и Эли обычно пользовались телефоном, но чтобы письма писали — такого Жак не припомнит. Словно сговорившись с Ханой-Кармелиткой и Моше Гулько, они предложили ему совершить вместе с ними двухнедельный вояж — и не куда-нибудь, а именно туда, в освободившуюся Литву — мол, пока ты, пап, жив-здоров, мы на семейном совете единогласно решили пройти по дорогим для твоего и нашего сердца местам, по которым когда-то хаживали дед и бабка, посетить Рудниковскую пущу, где ты воевал с немцами. Мартина и Беатрис в восторге от нашей затеи, а о твоих внуках — деловитом Эдгаре и шельме Эдмонде — и говорить нечего: они уже не могут дождаться того дня, когда самолет взмоет в небеса. Лучше всего, как нам кажется, предпринять наше семейное путешествие летом, в начале июня, где-то в первой декаде. Жаль только, что наша бедная мама не дожила до этого… Мартина обещает все запечатлеть на пленку. Надеемся, что ты с радостью примешь это предложение и не откажешься стать нашим гидом и толмачом. Все расходы, естественно, мы берем на себя. Точка и поцелуй в конце письма...
Письмо ошеломило Жака, а желание сыновей взять все расходы на себя просто его рассердило. Он что — нищий? Сам может их куда угодно свозить. Меламед долго не мог принудить себя сесть за стол и написать ответ, несколько раз перечитывал написанное, исправлял фломастером ошибки в названиях родного местечка и Рудницкой пущи, неизвестно от кого прятал конверт в ящик письменного стола, снова доставал и хмурил свои мохнатые, как шмели, брови. После того, как Эли и Омри распрощались с Израилем, он с ними не переписывался; еще больше замкнулся, сравнивая себя в душе с одиноким и захиревшим мандариновым деревом во дворе, которое покинули птицы; на вопросы о близнецах отвечал уклончиво и с раздражением, стараясь представить дело так, будто они не дезертировали из страны своего рождения, не бросили отца на произвол судьбы, а, оставаясь гражданами Израиля, согласились представлять интересы крупной хайфской фирмы в дружественном государстве.
Ушедшие с головой в алмазный бизнес, Эли и Омри нечасто баловали отца своим дорогостоящим вниманием, для приличия ограничивались звонками-милостынями — звякнут из Амстердама или Антверпена, заученно осведомятся, как здоровье, не нуждается ли он в каких-нибудь американских лекарствах, сунут аппарат деловитому Эдгару или шельме Эдмонду, дадут им на ломаном иврите покалякать с дедом, скороговоркой объясниться в любви и — до следующего раза, который Бог весть когда еще случится. Меламед даже придумал горестное и ядовитое определение — телефонные дети.
Письмо близнецов не только обрадовало, но и напугало — куда в его годы, с таким букетом болезней ехать? Зачем им, присяжным путешественникам, квелый попутчик с распиленной грудью и пересаженными сосудами? Неровен час — где-нибудь по пути грохнется замертво. Пусть едут сами, он охотно им подскажет, к кому обратиться — в Вильнюсе живет его однокашник и земляк Аба Цесарка, зарабатывающий на жизнь тем, что забирается с иностранцами на своей потрепанной "Волге" в литовские дебри; Аба за небольшую мзду — долларов сто — покажет им все печальные еврейские достопримечательности: гетто, кладбища, братские могилы, дедовские местечки, где ни одного еврея днем с огнем не сыщешь, а он останется дома, на Трумпельдор, со своими соседями и птицами. За приглашение, конечно, спасибо, но на него пускай не рассчитывают… До июня еще дожить надо, глядишь, Эли и Омри передумают, остановят свой выбор не на Литве, а на какой-нибудь влюбленной в Израиль Микронезии или на экзотическом Непале.