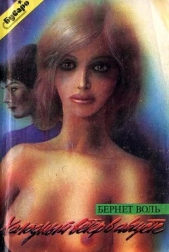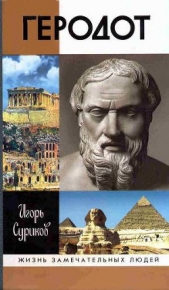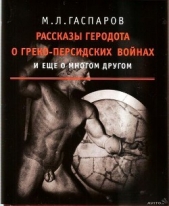Бом-бом, или Искусство бросать жребий

Бом-бом, или Искусство бросать жребий читать книгу онлайн
Андрею Норушкину, главному герою романа, даровано священное право - быть хранителем мистического колокола судьбы, спрятанного в подземной башне и молчащего до норы до времени.
Но уж если ударил колокол - жди грозы, результат которой непредсказуем.
Так о чем же этот роман? Я бы сказал – об ответственности. Только у каждого она бывает разного уровня. Чаще всего ограничивающаяся узким кругом близких и родственников. Род Норушкиных несет ответственность, ни много ни мало, за судьбы России.
На земле существует семь башен сатаны, по числу главных ангелов, сошедших с неба на землю, чтобы возлечь с дочерьми человеческими, а сынам человеческим открыть то, что было скрыто, и соблазнить их на грехи. Потому они смотрят не в небо, а в землю. Две из них находятся в России. За башнями исправно надзирают бродячие колдуны, демонопоклонники, которых называют убырками – по наущению лукавого убырки в свой срок насылают через эти пасти преисподней на белый свет чёрные беды.
Башня же, находившаяся в родовом имении Норушкиных – Побудкине, уже давно была очищена от скверны и исправно служила борьбе со злом. И обязанность во все времена Норушкиных мужского пола была - нечисть до башни той не допускать.
Роман живописует историю этого рода на протяжении нескольких веков. Не все, но многие из них в трудные времена по внутреннему зову спускались в подземелье и звоном колокола «будили» русский народ. Возможно, именно этой башне мы обязаны и восстанием декабристов, и победой в последней кровавой войне, не считая прочей мелочи, типа дефолта, когда в нее по лазу пробрался хорек.
Плата за звонарство – невозвращение. И только на последних страницах романа мы узнаем, что же случилось с рискнувшими спуститься вниз.
Отдавая дань «Женщине французского лейтенанта» Фаулза, Крусанов приводит два финала в зависимости от того «орлом» или «решкой» упадет монета главного героя. Хотя, второй финал – закладка входа в башню, по сути своей, всего лишь временная отсрочка от неизбежного.
В 2003 году роман стал финалистом престижной премии "Национальный бестселлер".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дача Нулиных стояла в глубине сада и походила на пирожное, изваянное французским кондитером, весьма пресыщенным строгой кухней классицизма: этакий чудо-терем, прибежище фей и эльфов – благонравной европейской нечисти. На задах виднелись охристый флигель, конюшня с каретником и застеклённая оранжерея (в ту пору Петербург особо славился своими теплицами, оранжереями, ананасниками и зимними садами), круглый год поставлявшая Нулиным живые цветы и медовые груши – такие сочные, что стоило неловко взять плод в руку, как он тут же густо стекал в рукав.
Отца и сына Норушкиных граф Нулин принял радушно, хотя близкого знакомства они не водили, довольствуясь беседами о псовой охоте и французских вольнодумцах на балах и учтивыми поклонами в театре. Барышень Нулиных дома не оказалось, они в компании кавалеров отправились амазонками на стрелку Елагина острова, где нынче находилось излюбленное место прогулок аристократической молодёжи, так называемый «пуант» – в этот час там совершали вкруг пруда пеший и верховой моцион вполне домашние детки, а ближе к ночи (о чём был немало осведомлён гвардейский офицер Александр Норушкин) туда на лихачах стекалась толпа столичных повес, беспутных шалберов, приударяющих за театральными дивами и красотками демимонда, чтобы, свершив ритуальный объезд пруда, людей посмотрев и себя показав, разъехаться за полночь по отдельным кабинетам ресторанов и номерам заурядных гостиниц.
В ожидании обеда граф с графиней и званые Норушкины расположились в отделанной уральским родонитом гостиной, возле среднего окна, где был устроен этамблисмент: два диванчика, три кресла и круглый стол с оставленными на нём рукоделием и переплетённой в телячью кожу «Повестью о взятии Царьграда», сочинения Нестора Искандера.
– Вольтерьянское человековознесение и секуляризация идей, любезный князь, разцерковление представлений о мире, человеке и гиштории увлекают лишь внешней отвагой, но на деле никуда не годны, ибо отвага эта чистой воды безрассудство, – говорил граф Нулин, поводя из стороны в сторону мятым от природы, словно натянутым на комок изжёванного сотового воска, лицом. – Безрассудство не как победительное бесстрашие, но как беспечное и гибельное недомыслие. Посудите сами: ведь ясно, что гиштория насквозь есть вещь непостижимая и сокровенная, ибо исток её – промысел не человеческий, но Божеский и конечная цель её указана тем же нечеловеческим промыслом. Как учат нас апостолы и церковь, мир ограничен и имеет начало и конец от Бога. Логика этой непостижимой гиштории предопределена самим таинством бытия и подчиняется токмо закону Божественного провидения. И человек, коли на то пошло, играет в гиштории роль, прости Господи, тараканью, в лучшем случае – обрядную, как на театре представляя в земном мире небесный принципиум и претворяя в существенность предопределённый Божественный замысел. Это назначение, с позволения сказать посланничество, даёт человеку повод считать себя сосудом Божественного – чем и зачарован наш фернейский мудрец, – хотя здесь и на вершок нет истины – иначе сосудом Божественного вправе считать себя и орды саранчи, обращающие цветущие Палестины в пустыню. На манер сих орд, того гляди, разбушуются и французы – так ведь у них почище выйдет пугачёвского ядовитого вымысла! Что ни говорите, а всё ж не следует с поспешностью лишать людей их ярма – ведь подчас токмо ярмо и придаёт им хоть какую-то значимость.
– Совершенно с вами согласен, граф, – поскрёб ногтем розовую, в паутине золотистых прожилок, родонитовую столешницу Гаврила Петрович. – Светское любомудрие греховно влечёт нас потугами, минуя религию, дать последние ответы на последние вопросы. Ни к чему чинить из этого порока адский жупел, однако же хочу отметить – всякий раз непременно оказывается, что философия всего лишь выдаёт нам искомое за найденное, снимая на этом подлоге сливки с нашего простосердечия. Мнится мне, и Европа, и единоплеменники наши ещё не раз расквасят носы на этой склизкой поболотной гати.
Графиня шумно вздохнула, на манер девки-чернавки широко всплеснула руками и, путая последовательность поветрий, излила душу:
– Господи Иисусе, какие нынче модники стали благородные господа! То у них Калиостры с магнетизмами на уме, то французы безбожные с языка не сходят! – С показной простотой графиня принялась лупить поданное слугой по предписанию врача варёное перепелиное яичко. – И не молодцы, чай, давно, а поспевают, востряки! А я-то, дура старая, всё по хозяйству хлопочу, всё кадушки с рыжиками считаю... Пошто бы и вам, милостивые государи, заразу эту басурманскую на молодых не оставить? Пущай смекают.
– И то правда, матушка, – рассмеялся Нулин и обернулся к князю Александру: – А что мыслит о европейских философических идеях наша молодёжь?
Александр Норушкин был скор умом и подвижен телом, про таких говорят: его в ступу посади – пестом не попадёшь. Поэтому, зная о Дидро и Д'Аламбере – былых чужедальних советниках государыни – лишь понаслышке, он принял тон, каким, как он предполагал, мог бы потрафить сразу и графу, и простонравной графине:
– О философических идеях я такого суждения: коли не препятствуют они всеправеднейшей службе отечеству, матушке-государыне и вере православной, коли не мешают жить в незазорной любви, миру и согласии, коли не грозят они столкнуть державу в бездну анархии и хаоса, то годны сии к подробному рассмотрению. В ином случае все многоумные прожекты и замыслы суть не учёное мудрствование, но крамола. – Тут Александр Норушкин посмотрел вокруг так, словно только очнулся от забытья и не понимает, где и как он очутился. Однако вскоре взгляд его прояснел и глаза озорно блеснули. – Говорю особливо за себя, но одному человеку, как известно, совершенну быть и погрешностей избежать не можно. А что до воззрений, с позволения сказать, поколения, то у нас в полку говорят так: философией голову не одурачишь. Тут надобно что покрепче... да под рыжики, какие вам, графиня, из имения кадушками шлют.
– Похвальный строй мыслей, – улыбнулся граф Нулин, и жёваный воск под его лицом выпятил бугры. – Что ни говорите, судари мои, а у младости перед нами есть один неоспоримый козырь – младость.
– Вот вам образчик целостной натуры, – с бесхитростной прямотой вынесла суждение графиня. – Тут вам и делу время, тут и потехе час. Не то что иные нынешние ветрогоны: принарядятся павлинами – и на проминку. И никаких вам помышлений о долге и службе!
– Кстати о павлинах, – ввернул словечко князь Гаврила Петрович. – Как мой пернатый беглец?
Граф кликнул слугу и велел ему позвать в гостиную Федота с птицей.
– И захвати, братец, клетку из моей коляски, – добавил от себя Гаврила Петрович.
Граф между тем поведал гостям, что беглый попугай сам залетел в его оранжерею и облюбовал под насест – губа не дура – коричный лавр, где и был изловлен садовником. Потом Нулин рассказал о самом садовнике, чья история и впрямь оказалась занятной, так как был он не заурядным заморским мастаком регулярных парков, понаторевшим в обчекрыжке зелёных кущ, но здешним вольным вертоградарем, к тому же духовного сословия – из поповичей. Звали его Федот Олимпиев, и постиг он своё ремесло путём чудным и сокровенным – с юных лет каждую ночь снилось ему возведение сада, так что в конце концов он овладел этим искусством в таком совершенстве, что знал норов каждого цветка, каждого куста и дерева, какие только есть на свете, а когда примерился наконец к устройству сада наяву, то все саженцы у него прижились, а яблони и сливы по первому же году дали плоды. Осенённый этой благодатью, Федот прославился в округе, и поскольку отец его наставлял паству в сельце Нулинке, то граф не преминул нанять Божьей милостью древознатца к себе в услужение. Ну а грех неверности сословному преемству Федот за собой не признавал: ведь рай – это и вправду в первую очередь сад. Если, конечно, без крючкотворства.
Явившийся садовник, помимо попугая, сидевшего у него на руке, как ловчий сокол, прихватил с собой жену и милую, с южным матовым цветом лица, десятилетнюю дочурку, в тугих светло-русых волосах которой красовался лиловый розан. Позади семейства топтался графский слуга с золочёной клеткой на пальце.