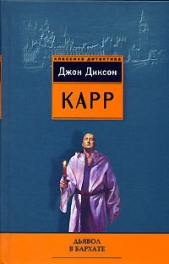Пороги
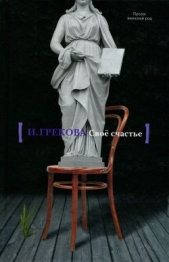
Пороги читать книгу онлайн
Романы И. Грековой «Пороги» и «Перелом» так же, как знаменитая «Кафедра», снова погружает читателя в любимую писательницей среду научно-технической интеллигенции. И это только кажется, что в институтах все крутится вокруг диссертаций и открытий. Любовь, ревность, борьба интеллектов и характеров и даже… детективная интрига. Словом, у каждого «свое счастье». А жизнь состоит из порогов, которые мы преодолеваем, переступая, прежде всего, через самих себя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Почему вы думаете, что я способен, как вы выражаетесь, «вскрывать пласты»?
— А как же! Ваши авторские свидетельства — они говорят о многом.
— Все эти изобретения давно устарели, с головой перекрыты.
— Сделаете новые! А идеи вам подкинут теоретики — Полынин, Шевчук и другие…
— Иван Владимирович, я очень невысокого мнения о себе, но еще никогда по чужим идеям не работал. Если работал, то по своим собственным.
Панфилов просиял:
— Тем лучше! Именно свежих идей нам и не хватает. Нам уже это ставили в вину. Я очень рад, очень рад…
«Нет, решительно меня здесь принимают за кого-то другого», — подумал Нешатов, и у него заныло сердце. Панфилов продолжал смотреть на него с преувеличенной любезностью:
— Я слышал о вас такие лестные отзывы…
— От кого?
— От многих. В частности, от Анны Кирилловны Дятловой.
— Ну, знаете, ее свидетельство вряд ли стоит принимать всерьез. Она человек восторженный.
— Кстати, кажется, я слышу ее голос, — сказал Панфилов.
Послышался шум, как будто шло много народу, дверь широко распахнулась, и в кабинет вошла, нет, ввалилась, крупная толстуха в светло-сером, туго обтягивающем платье, щедро выявлявшем все выпуклости и впадины пожилого тела. Нешатов глядел на нее, мучительно узнавая и не узнавая. Анна Кирилловна? Да, она. Но до чего же расползлась, разбухла, деформировалась. Ко всему еще и рыжая — рыжая, как ирландский сеттер. А была брюнеткой…
Она закричала басовитым, прокуренным голосом:
— Говорят, к вам Юра Нешатов пришел наниматься. Что же вы его от меня прячете?
— Да вот он, — сказал Панфилов.
Нешатов начал вставать, но не успел. Анна Кирилловна обрушилась на него сверху, прижала к креслу, отпечатала на его носу какую-то пуговицу и запричитала:
— Юрочка, родной, ненаглядный! А я-то, дура, не узнала! С первого взгляда совсем другой, а со второго — все такой же. Живой, здоровый?
— Пока живой, — отвечал Нешатов, барахтаясь в кресле.
— Боже, какой кошмар, я вас помадой перепачкала. Ничего, вытру. Ну встаньте-ка, дайте себя разглядеть!
Кое-как ему удалось встать. Эти низкие кресла — прямо западня! Он пригладил волосы, он не любил, чтобы его растрепывали и вообще трогали. Анна Кирилловна бурно заключила его в объятия и нанесла ему еще два поцелуя, после чего стерла следы этих и предыдущего своим платком. Вытирая, она приговаривала:
— Постарел, поседел, подурнел… А ведь какой был красавчик! Ничего не осталось, одни глаза. Не беда, вы тут поправитесь, похорошеете…
Директор наблюдал за этой сценой со своего места. Умные глаза потешались.
— У нас здесь такой коллектив, — говорила Анна Кирилловна, — такой коллектив, вы увидите. Начиная с Ивана Владимировича, уже не говоря о Фабрицком. А Ган Борис Михайлович — это же Иисус Христос Василеостровского района!
Директор встал:
— Анна Кирилловна, мне кажется, наш гость немного утомлен. Слишком много впечатлений для первого раза. Юрий Иванович, я больше вас не задерживаю. Идите-ка домой, а завтра приносите документы. Ладно?
— Хорошо.
Вышли. Миловидная секретарша с розовыми ушами отметила ему пропуск, поставила печать.
— Юрочка, как я рада! — сказала Анна Кирилловна, пылко закуривая на ходу. — Вы, конечно, пойдете в мою лабораторию. Народ у нас хороший, тематика интересная. С техникой не всегда ладится, ну да вы что-нибудь придумаете. Я на вас надеюсь.
— Анна Кирилловна, — через силу сказал Нешатов, — я еще не знаю, буду ли работать вообще. Здесь меня принимают за кого-то другого.
— Чушь! За кого же вас могут принимать, как не за Юру Нешатова? Золото мое! Дайте я вас еще поцелую.
Нешатов, внутренне кипя, вынес еще один поцелуй и еще одно вытирание.
— Анна Кирилловна, вы меня извините, я неважно себя чувствую, я лучше пойду.
— Не понравились мои поцелуи? Понимаю. Больше не буду. Это я для первого раза. Вспомнилось прошлое…
Глаза у нее налились слезами.
— Не в этом дело, — интенсивно страдая, сказал Нешатов, — просто я еще не уверен в будущем. К тому же нездоров. Простудился, — поспешно добавил он.
— Так что же я вас задерживаю? Идите домой, да в постель, да горячего чаю с малиной. Есть дома малина? Нет? Прислать вам баночку?
— Ни в коем случае. Простите, Анна Кирилловна, я пойду.
— Идите, идите.
2. Под Моцарта
Борис Михайлович Ган отпер дверь двумя ключами, висевшими на бисерном шнурке (работа жены), вошел в прихожую, размотал шарф, зачесал волосы перед зеркалом, поправил галстук. Здесь каждая вещь была не просто вещью, на всем была печать забот и любви его жены Катерины Вадимовны. Переступая свой порог, входя в дом, он каждый раз словно погружался в теплую сладкую воду. Отходили тревоги, сложности, оставалась любовь.
— Боречка, ты? — раздался голос.
— Я, Катенька.
Она вышла навстречу, руки по локоть в муке. Опять что-то пекла! А ей наклоняться нельзя категорически.
— Пекла? Наклонялась?
— Совсем немножко. Не сердись. Слоеные, твои любимые.
— Что мне с тобой делать, ума не приложу.
— Поцеловать.
Она отвела руки в стороны, и они с мужем осторожно поцеловались в самую середину губ. Сухонькие, нежные, увядшие губы; он их поцеловал не с меньшим, а с большим трепетом, чем когда-то упругие, девичьи.
— Катенька-капелька, — нежно сказал он. Она до сих пор была для него «капелькой» — эта растучневшая старушка с хорошеньким прямоносым личиком. Прелестна была ножка, не без кокетства выставленная из-под платья, прелестны седые колечки на лбу, с вечера накрученные на бигуди. «До чего же мила, — подумал Ган, — и за что мне такое счастье?» Счастье и страх за него одновременно шевельнулись в сердце, отозвались легким привычным уколом.
— Боречка, проходи в столовую, я сейчас.
Из двух комнат квартиры одна по-старинному называлась столовой, другая — спальней. Половину столовой занимал дедовский буфет, громоздкое сооружение из темного дуба с резными башенками по углам — нечто вроде собора Парижской Богоматери в деревянном исполнении. Каким-то чудом он пережил блокаду. Остальную мебель сожгли. Вспомнив о блокаде, Ган физически ощутил свое тогдашнее легкое, иссохшее, почти не существующее тело, до отказа перетянутое солдатским ремнем, и странный космический голод (уже не голод, а мировая пустота). Как он ходил тогда по улицам — не ходил, а витал, и санки витали вслед за ним на истертой веревке. Если он не умер тогда, не лег на те же санки, зашитый в одеяло, так это благодаря Катеньке — худенькой, синей, безвозрастной, но неизменно веселой. Сколько же лет ей было тогда? Смешно сказать — тридцати еще не было! А он, на три года ее моложе, выглядел стариком, называли «дедушкой»… Правда, поседел ненормально рано.
На фронт не взяли по близорукости, оставили инженером на оборонном заводе. Завод, несмотря на условия (без воды, без топлива!), давал продукцию, скорее символическую. Сыновей-погодков, Мишу и Леву, еще в начале войны удалось отправить на Большую землю с заводским детсадом. Могла эвакуироваться с ними и Катенька — но не поехала, осталась с ним, отвоевала у смерти. Теперь сыновья давно взрослые, даже немолодые, оба женаты, понемногу лысеют, сами обзавелись детьми.
Скользя взглядом по накрытому столу, Ган привычно залюбовался его праздничной церемонностью. Белая крахмальная скатерть, рогульки для ножей-вилок, салфетки в кольцах, букетик астр посредине, всего три цветка: лиловый, розовый, белый. На это Катенька всегда была мастерица. Даже тогда, в блокаду, в закопченной холодной кухне, без света, без воды, она умудрялась сделать обеденный стол нарядным. Может быть, именно это помогло выжить. Опустившиеся умирали быстрее…
«Да что я сегодня все о смерти?» — упрекнул себя Ган и перевел мысли на другое, приятное. Привычно порадовался: до чего же удачно разменяли квартиру — ту, огромную, барскую, с высоченными потолками, — отделили детей. Не то чтобы они с Катенькой не ладили с невестками, не любили внуков. Ладили, любили. И все-таки старики должны жить отдельно. Жили-были дед да баба… А дети, несмотря на занятость, иногда приезжают. Не часто, но приезжают. Торты привозят, чудаки. Знаки внимания. Нет, если правду сказать, не так уж мало досталось им с Катенькой сыновней любви. Послушаешь, у других хуже…