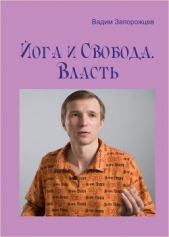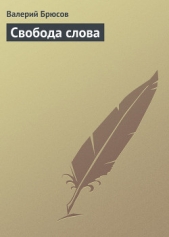Статуи никогда не смеются

Статуи никогда не смеются читать книгу онлайн
Роман «Статуи никогда не смеются» посвящен недавнему прошлому Румынии, одному из наиболее сложных периодов ее истории. И здесь Мунтяну, обращаясь к прошлому, ищет ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня. Август 1944 года, румынская армия вместе с советскими войсками изгоняет гитлеровцев, настал час великого перелома. Но борьба продолжается, обостряется, положение в стране по-прежнему остается очень напряженным. Кажется, все самое важное, самое главное уже совершено: наступила долгожданная свобода, за которую пришлось вести долгую и упорную борьбу, не нужно больше скрываться, можно открыто действовать, открыто высказывать все, что думаешь, открыто назначать собрания, не таясь покупать в киоске «Скынтейю». Но свобода оказалась совсем не такой, как она представлялась многим. Жизнь для рабочего человека по-прежнему тяжела, не хватает самого необходимого — хлеба, молока, — с каждым днем все труднее сводить концы с концами… Именно в этот период напряжения всех сил народа отчетливо выявилось подлинное лицо различных партий и группировок, проступила истинная сущность людей, их поступков, характеров, душевных свойств.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лейтенат повторяет:
— Я из Влашки. У нас сейчас, должно быть, очень жарко… Этот подойдет? — спрашивает он и показывает клетчатый заплатанный пиджак.
— Нет.
— В такую погоду самбе лучшее — выкупаться. У нас во Влашке…
— Я нашел, — перебивает его толстяк и начинает раздеваться.
Офицер стыдливо отворачивается. Он так занят своими мыслями, что не замечает, как толстяк уходит.
— У нас во Влашке… — он поворачивается и видит, что остался один. Это его не удивляет, скорее радует.
Он сбрасывает китель и ищет подходящую гражданскую одежду.
В воротах тюрьмы толстяк, ослепленный ярким солнцем, протирает глаза. Он еще не привык к свету. Часовой у будки смотрит отсутствующим взглядом. Он получил приказ ни во что не вмешиваться, спокойно стоять на посту.
Толстяк подносит к виску два пальца, отдавая ему честь.
2
В городе повсюду чувствуется оживление. Центральные магистрали запружены грузовиками с солдатами в серо-зеленых мундирах. Мостовая содрогается под стальными гусеницами танков.
Толстяк стоит на краю тротуара в толпе зевак, с улыбкой наблюдая за этим бегством. Прямо перед ним проносятся немецкие грузовики. Толстяк, насмешливо приветствуя их, подносит два пальца к виску.
Его раздражают равнодушные, занятые своими будничными делами прохожие. Схватить бы кого-нибудь из них за шиворот и встряхнуть хорошенько: «Черт тебя подери! Разгуливаешь, бездельник, а…» Может быть, именно поэтому он и не вынимает рук из карманов: как бы не натворить глупостей. Перед витриной магазина игрушек толстяк на мгновение останавливается. Никогда еще он не возвращался из тюрьмы с пустыми руками. Его дочурке говорили, что он уехал куда-то по делам. Но теперь уже не важно, узнает она или нет, что он сидел в тюрьме. Толстяк хотел было уйти, как вдруг заметил в витрине оловянных солдатиков, одетых в немецкие мундиры. Надо бы сказать хозяину, чтобы их выбросили на помойку. Но он не входит в магазин и, свистнув, идет дальше. Ему весело. Как много, однако, предстоит сделать! Там, заключенный в четырех стенах камеры, он и не думал, что когда-то придется проводить чистку даже среди игрушек… «Да о скольких вещах я еще не думал…»
У вокзала какой-то рабочий, опершись на перила мостика, играет на губной гармонике. Знакомая мелодия: «Вперед, товарищи!» «Наверное, подает кому-нибудь сигнал», — думает толстяк и идет дальше.
Прохожие все куда-то спешат. Они прямо бегут. У одной женщины прорвалась сумка, и на тротуар сыплются овощи. Кто-то говорит ей об этом, но женщине некогда даже обернуться, так она торопится.
Где-то радиостанция «Ильза II» передает последние известия с фронта: «Под Яссами немецкие войска, попавшие в окружение, в течение четырех дней оказывают героическое сопротивление».
Все знают, что Яссы уже освобождены.
На вокзале в зале ожидания не протиснуться. Особенно человеку довольно плотной комплекции. Все же заключенный пробирается сквозь толпу и выходит на перрон. В эту минуту железнодорожник вывешивает на крыше склада красный флаг. Толстяк смотрит на флаг, и лицо его расплывается в улыбке. Улыбка у него необычная: лицо становится еще шире, глаз почти не видно, только узкие щелочки. Пожалуй, он даже не улыбается, а смеется. Если бы толстяк не торопился, он бы не ушел отсюда, так и стоял бы возле флага и улыбался или собрал бы всех, кто был в зале ожидания, чтобы и они полюбовались этим зрелищем. Ему досадно, что есть люди, которые в эти торжественные минуты стоят за лотками и торгуют мятными конфетами. Так бы, кажется, и дал пинка вон тому типу, который, лежа на цементном полу, играет в двадцать одно с безногим инвалидом в военной форме. Но сейчас некогда заниматься разъяснительной работой. Перебегая через пути, толстяк совсем запыхался. Давно уже ему не приходилось так много двигаться. И все же он не сдается и находит наконец товарный состав, на котором мелом написано «Тимишоара — Арад». Присмотревшись хорошенько, он видит в голове состава несколько пассажирских вагонов и бежит туда. Резкий свисток извещает об отправлении. В последнюю минуту толстяк все же успевает вскочить на подножку вагона. То ли он слишком устал, то ли ему хочется подышать свежим воздухом, но только толстяк так и едет на ступеньках.
Все чаще, чаще перестук колес. Дома, строения попадаются все реже, и вот уже до самого горизонта, насколько хватает глаз, расстилаются бескрайние поля. Тянутся бесконечные нотные линейки телеграфных проводов, нагоняя сон. Вместо нот — птицы. Толстяк начинает напевать, тихонько, словно про себя. Эту песню он услышал на мосту. Колеса подхватывают мелодию, отстукивают тот же ритм.
Прямоугольные участки, засеянные кукурузой, полоски земли медного цвета, поля зеленого клевера как бы накручиваются на ось колес. Забавная оптическая игра, грациозный танец природы.
Вдруг кто-то хлопает его по плечу. «Какого черта!» Толстяк поворачивается и видит усатого человека в железнодорожной форме. «Никак контролер».
— Ну, чего тебе?
Лицо усача принимает официальное выражение, и он показывает компостер.
— Предъявите билет!
— У меня нет билета, — говорит пассажир и с невинным видом пожимает плечами.
— Тогда слезай! — И чтобы придать больше убедительности своим словам, усач толкает его ногой.
Шпалы мелькают так быстро, что, кажется, между ними нет промежутков. Под ступеньками все сливается в одну сплошную бесцветную ленту. Толстяк с силой сжимает поручни, затем, рассердившись, встает во весь рост. Усач напуган этим толстым великаном. Он становится вежливее:
— Ну, тогда я составлю акт.
И он действительно достает из кожаной сумки несколько листков бумаги, вынимает из-за уха огрызок химического карандаша, слюнявит его и строго спрашивает:
— Фамилия?
— Хорват, — отвечает толстяк.
— Профессия?
Эти формальности кажутся Хорвату смешными. Несколько часов назад все в мире перевернулось, а этот железнодорожник продолжал автоматически, упрямо выполнять свой долг, словно ровным счетом ничего не произошло. Что ему сказать? Что он прядильщик?.. Может быть, контролер никогда и не слыхал о такой профессии… У толстяка мелькает мысль. Он улыбается:
— Политический заключенный.
Пассажиры на площадке смеются.
Контролер смущенно покашливает, потом, рассердившись на столпившихся вокруг пассажиров, требует и у них билеты.
Хорват снова опускается на ступеньку. По-прежнему навстречу бегут шпалы, с той же быстротой сменяют друг друга телеграфные столбы, а мысли текут все медленнее, все спокойнее. Лица товарищей по заключению блекнут в памяти, отступают, проносящиеся мимо поля теряют свои очертания, расплываются. Причиной тому сон или слабость, наступившая после долгого напряжения. В общем, это одно и то же. На стуле против камеры мелодично похрапывает ночной надзиратель; в длинных тюремных коридорах раздаются шаги хромого священника, словно танцующего вальс, из соседней двадцать седьмой камеры слышится сухой чахоточный кашель заключенного, его голос похож на голос прислуги Бухольтца с улицы Фенешан, где когда-то жил Хорват. Как он ни старается, он не может представить себе ее лицо: помнит только, что у нее был чересчур выпуклый лоб и волосы песочного цвета. В свободные часы, примерно после четырех, закончив мыть посуду, она выходила на балкон и, приподымая кончиками пальцев подол, напевала: «Adié, adie, mein kleiner Gardeoffizier, adie…»[2]
«Где-то она теперь? Может, вышла замуж, и у нее есть дети?.. Знает ли она, что мы перешли на сторону русских?.. Но что это я вдруг вспомнил о прислуге Бухольтца с улицы Фенешан?.. Вот чушь-то! А контролер, который потребовал у меня билет, понимает ли он, какой сегодня день? Пойти к нему и спросить, но ведь тогда нужно подниматься». Толстяк отказывается от этой мысли. А впрочем, что ему скажет контролер? «Оставь меня в покое, будь доволен, что я не составил акта. Я не занимаюсь политикой, мне сорок восемь лет, и у меня пятеро детей, а жена страдает ревматизмом. Она простудилась, когда рожала Енаке, восемь месяцев пролежала в постели, теперь ей лучше. Жена сама белит стены в наших комнатах старой платяной щеткой вместо малярной кисти, и никто на свете не умеет делать такой вкусный сливовый мармелад, какой делает она. Второй ребенок у нас очень умный, у него светлая голова, во втором классе лицея он получил награду — четыре толстые книги. За дом в Микалаке мы уже выплатили, остались должны только черепичному заводу Мушонга в Лугоже».