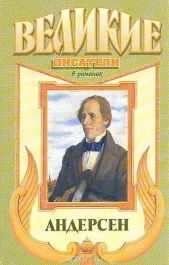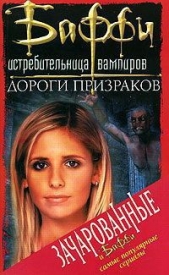Новый Мир ( № 3 2011)
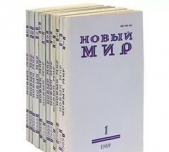
Новый Мир ( № 3 2011) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не подходите к нему — он заразный: кто прикоснётся, тоже дураком станет.
— Я дурочка-снегурочка, мой папа — Дед Мороз, а мамочка — снежиночка, а ты — сопливый нос.
— Даун-хауз!
— Даун-хауз!
Мне стало страшно: на месте этого мальчика — даун-хауза — мог оказаться любой из взрослых трамвая, в том числе и я. Если мне было страшно, то что чувствовал — если чувствовал что-то, конечно, если страх ещё не успел превратить его в дерево, в камень, в мертвеца, — этот сильный, уже нравящийся самочкам и знающий, что уже нравится, человечий зверёныш — сантаклаустрофоб, обложенный со всех четырёх сторон бандерлогами? Что ушло — не ушло, вылетело, сбежало из его жизни — и что в неё ворвалось, когда бандерлоги рвали его на части, на ошмётки? Почему он не встал на дыбы и не разбросал детей-недетей во все стороны?
Почему, наконец, не обратился за помощью к нам, взрослым-невзрослым? По той ли причине, по какой и я не сделал этого двадцатью восьмью годами и тридцатью девятью абзацами раньше? Или по другой? А вот слёзы, я уверен, у нас с даун-хаузом были совершенно одинаковые — и на цвет и на вкус.
Об эросе и танатосе
Автобиография — это чистейшей воды вымысел.
Г. Миллер, “Книги в моей жизни”
После войны, в сороковые-пятидесятые, очень любили фотографировать похороны. У каждого из нас в отцовских семейных альбомах есть фотокарточки, на которых люди стоят вокруг гроба. В фокусе — лицо покойника.
На самом деле эти фотографии — о бессмертии, о смерти, которой нет и больше уже не будет. Великой была победа не над немцами, а над смертью. Другие цели — другие масштабы.
Сейчас никому, кроме самых изощрённых извращенцев, в голову не придёт фотографироваться на фоне трупов. Другие цели — другой формат. Но отголоски этой любви докатились и до наших семидесятых-восьмидесятых. Мы тоже любили смерть, но уже по-своему, по-нашенски, сиротскою любовью, то есть безответно и безнадёжно.
Мы росли и мужали в самую сытую и благополучную эпоху, у нас было всё, кроме смерти, войн и революций. И смерти нам очень и очень не хватало, хотя бы маленькой, канареечной, мы стремились к ней, искали её повсюду, в том числе и в самих себе.
Где мы её брали? В пятилетней девочке, которую знали мало и плохо: она часто болела и в детском саду показывалась по большим праздникам, а потом вдруг утонула — а мы и не знали, что она не умеет плавать, — и её повезли в маленьком автобусике, в котором перевозят туда-сюда жителей сёл и деревень, а теперь его назвали катафалком, и он повёз нашу мёртвую принцессу по улице Чернышевской мимо театра Пушкина, управления КГБ и нашего детского садика, а мы, отталкивая друг друга, побежали захватывать лучшие первые места — у самого забора, где не для нас выращивали редчайший — чуть ли не фиолетовый — сорт маргариток и ещё какие-то такие же декоративные тюльпаны.
Мы задавали друг другу каверзные вопросы и рисовали виселицу, а на ней человечка, повешенного, символизирующего тебя — простофилю и неудачника, не давшего ни одного правильного ответа на, в общем-то, детские вопросы: каждый неверный ответ добавлял твоему человечку то ручку, то ножку, то головку, и вот он, красавец, уже весь целиком — висит в петле из твоих дурацких вопросов, болтается (тогда мы ещё не знали, что у повешенного наступает кратковременная эрекция, а до того — непроизвольное мочеиспускание, а то обязательно дорисовали бы и это).
В шестом классе мы, поднакопив в этом деле опыта, учились умирать полу-по-настоящему. Выйдя из класса на перемену, ты сначала глубоко-глубоко дышишь, что уже даёт ощущение приподнятости духа и не вполне ясное предчувствие чего-то грядущего, а потом твой верный друг, прислонив тебя к стене — безобразие, конечно, куда смотрела классная руководительница, да и другие учителя тоже, — со всей дури давил тебе грудь своими кулаками. И ты умирал. Не очень надолго, секунд на десять-пятнадцать, но твоему другу казалось — навсегда, и он, объятый ни с чем не сравнимым чувством, что умертвил тебя — того, кто изо дня в день давал ему списывать домашние задания, шёл за него в огонь и воду, делил с ним последний бутерброд с сыром, кто с ним — единственный из всего класса — соглашался на пеший поход к Северному полюсу через лесопарк и заброшенное еврейское кладбище, кто своей грудью заслонил его от пьяного соседа дяди Васи, когда тот с пьяным криком “Опять жидёнок к нам пришёл!” не очень метко кидался своим единственным костылём, — так вот, твой друг, пережив свою порцию страха и вдоволь насытившись ею, отчаянно хлестал тебя по мордасам, и ты, мёртвый, сползший по стеночке прямо на собственный портфель, откуда выкатилось заныканное от друга яблоко, оживал, рождаясь на этот свет заново, и первое, что ты видел, был всё тот же синий школьный коридор. Потом вы с другом менялись местами, и братоубийцей становился ты.
Эпидемия фальшивого умирания охватила всю школу: от слабосильных первоклашек до накачавших бицепсы старшеклассников. До сих пор неизвестно, кто первым начал и откуда вообще всё это взялось: казалось, ниоткуда, само по себе, из-под земли, на которой стояла наша школа. Дополнительный смысл игра приобрела, когда в неё включились девочки: давить на их едва-едва начинающую расти и оформляться во что-то живое и самостоятельное грудь было ещё страшнее и ещё интереснее. Но женщины есть женщины: любое, даже самое чистое и невинное коллективное занятие они обязательно сводят к сексу, интригам, придиркам и непременному выяснению, кто лучше, а кто хуже. Вскорости к их не таким уж и ценным на тот момент грудям (ведь оставались ещё и вечные ценности — машинки, лучше гоночные, пластмассовые солдатики, для некоторых — марки, почему-то тогда, в начале восьмидесятых, весь Союз был завален мадагаскарскими марками: с бабочками, зверями и птицами) допускался не каждый, а избранные, по каким-то нам, мальчикам, непонятным критериям, наиболее достойные. А раз так, то мы тоже не оставались в долгу, а выбирали грудь побольше и поперспективнее. Короче, со временем игра сошла на нет, эрос окончательно подмял своего братца танатоса, и мы, вооружённые и впечатлённые знаниями об одной из частей женского тела, переключились на другие: губы, плечи, ноги — от коленок и выше. Не разбирающиеся в законах жизни и смерти первоклашки, недоумевающие, почему мы их предали, ещё поиграли какое-то время без нас — недолго: демон вернулся туда, откуда пришёл, — под землю, в никуда.
Но смерть есть смерть, попробуй от неё уйти, и скоро — в следующем, седьмом классе — мы снова искали те места, где она прячется и ждёт нас. Девочки — в который раз — отошли на второй план — мы лазили по крышам. С боем прорывались на чердаки, откуда было уже рукой подать до неба, вылезали изо всех щелей, захватывали на крышах участки побогаче, понеудобнее и поопаснее, сражаясь за место под солнцем с кошками и воробьями, и там сидели целыми днями напролёт, ничего не делая. Тот, кто, карабкаясь по крыше, оступался, считался героем, и о нём ещё долго рассказывали по школе истории, добавляя всё новые и новые подробности. Тот, кто терял равновесие и скользил, цепляясь за что попало, к границе между тут и там, становился кумиром, и ему позволялось что угодно, в том числе и на время забытыми девочками. Если бы кто-нибудь из нас сорвался и размозжил себе голову, то, не сомневаюсь, мы увековечили бы его образ — как минимум назвали бы его именем школу или нашу пионерскую организацию.
Но никто не срывался и не летел вниз с жутким душераздирающим криком, и это несколько тяготило. В чью-то светлую голову пришла идея нюхать на крыше пятновыводитель. Мне не с чем сравнивать: бензин, лак, клей “Момент” так и остались за пределами моего личного психоделического опыта и опыта моих тогдашних товарищей тоже: “пятнышка” нам хватало с головой, одного флакона на всех, и ещё оставалось немного для нежданных гостей — таких же, как мы, фанатов ближних странствий из соседних, 1-й и 36-й, школ. Любопытно: встречаясь на земле, мы с ними могли подраться и часто так и делали, но встречаясь на небесах — никогда. Я не хочу объяснять это ощущение родством душ или чем-то подобным, не было ни родства душ и ничего подобного, просто земли на всех не хватало — районы, улицы, дворы чётко, куда уж чётче, делились по принадлежности: я — оттуда, ты — отсюда, и наоборот, — а неба как-то (сейчас меня это и самого удивляет, тогда нет) хватало всем. Как того же пятновыводителя: всегда оставалось лишнее, ничьё.