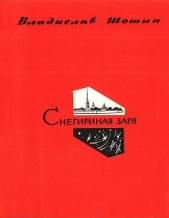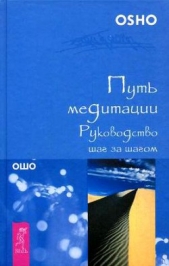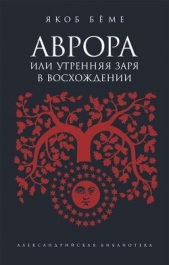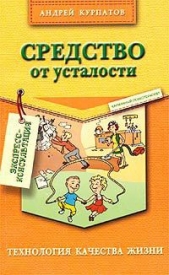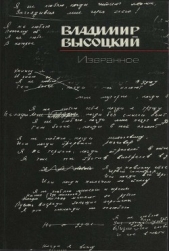Избранное
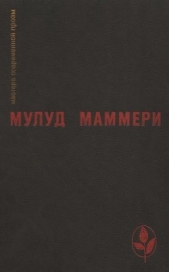
Избранное читать книгу онлайн
В сборник произведений одного из основоположников современной алжирской литературы Мулуда Маммери включены романы «Забытый холм», «Опиум и дубинка» и «Через пустыню». Их герои — жители горных деревушек Кабилии, смелые борцы за национальное освобождение, туареги Сахары, представители алжирской интеллигенции — непосредственные участники социальных преобразований, происходящих в стране в последние три десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Она позволяет себе это потому, что я не такой, как другие, так по крайней мере она сказала. Я прикоснулся к ее волосам, Мокран. Ах, какие у нее волосы!
— Что такое?
— У нее есть один седой волосок, и она хотела показать его мне. Ах, какие роскошные волосы!
Прикосновение к волосам Давды произвело на него такое сильное впечатление, что он не находил слов и лишь повторял: «Какие волосы!»
Слабый ветерок принес запах духов. То были духи Акли. Раз муж Давды появился где-то поблизости, благоразумнее было отложить наш разговор, и на этот раз Менаш меня понял.
— Это не от него так пахнет, — сказал он. — Пахнет от меня. Когда волосы у нее высохли, она их надушила, а заодно надушила и мои.
Мне любопытно было знать, как далеко зашел Менаш в своей борьбе с предрассудками, если он даже позволил себя надушить.
Я уже хотел было задать ему этот вопрос, как в темноте послышались торопливые шаги и, еще прежде, чем мы увидели самого Акли, до нас донесся его громкий голос:
— О чем вы тут толкуете, молодые люди?
— О Самсоне и Далиле, — ответил Менаш вызывающе, словно искал ссоры. — Не так ли, Мокран?
— Почти что так, — подтвердил я, чтобы спасти положение и вместе с тем не слишком исказить истину.
Акли не имел о Самсоне и Далиле ни малейшего понятия, но, как истый поборник просвещения, не хотел подать виду, что он чего-то не знает. Он принял мой ответ за тонкую шутку и разразился громким хохотом.
— До чего же ты остроумен, — сказал мне Менаш, раздраженный смехом Акли.
Я поспешил перевести разговор на другое.
— Откуда ты так поздно, Акли? — спросил я.
— Как бы ни был умен человек, все же в его жизни бывают случаи, когда, невзирая на принципы, указующие ему путь, как маяк — кораблю, ему приходится подчиняться требованиям общества; в один день не побороть всех этих допотопных предрассудков, тем более если действуешь в одиночку.
Акли подливал масла в огонь. Я понял это по явному нетерпению Менаша, не выносившего болтовни Акли: тот умел говорить подолгу, ничего не говоря. Я снова сделал попытку отвести грозу:
— Говорят, Секуру выдают за Ибрагима?
— Да. Очень жаль, что у нас еще не искоренен варварский обычай сочетать два существа, чуждых друг другу, — ответил он.
— Почему бы дураку не жениться на умной и красивой девушке? Это случается изо дня в день. Да за примером и ходить недалеко, — вставил Менаш.
Но просвещенный ум Акли был недоступен для такого рода намеков.
— Уже условились о приданом: десять тысяч франков и десять мешков зерна. Свадьбу сыграем в конце осени, — продолжал он как ни в чем не бывало.
Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь, и в темноте зазвучали его удаляющиеся шаги.
Тут с Менашем начался прямо-таки припадок.
— Вот болван, вот скотина! — кричал он в исступлении. А когда мы услышали мелодичный голос Давды, которая что-то отвечала вошедшему мужу, Менаш заткнул себе рот краешком бурнуса, чтобы не завопить подобно одержимому.
Я обнял его за шею. Звуки сехджи вдали становились все неистовее. Тамбурин, казалось, вот-вот лопнет от ударов, а голоса тех, кто подзадоривал пляшущих, доносились теперь вполне отчетливо, ибо ватага была уверена, что в этот час их никто уже не слышит.
— Теперь он с нею, — сказал Менаш. — Ничтожество! А все-таки лишь полчаса тому назад она прислоняла голову к моей и смотрела в зеркало — сравнивала наши волосы, цвет лица, очертания губ.
— Ты совсем спятил, Менаш? Ведь она его жена.
— Ну и что? Он сам только что сказал: женитьба у нас — дело случайное. Пусть скажет мне спасибо: пока он там толковал о приданом и разглагольствовал, стоило мне только…
— Менаш, ты плетешь несуразицу.
Он хотел что-то ответить. Я закрыл ему рот рукой. За воротами послышалось шуршание шелка и неровные, глухие шаги босых ног. И тут на нас повеяло запахом тех же духов, какими пахли волосы моего двоюродного брата.
Менаш молчал; он схватил меня за руку и так сжал ее, что чуть не раздавил. Рука у него была влажная и слегка дрожала. Давда кашлянула и заперла ворота, словно не знала, что мы стоим поблизости.
— Акли, — сказал я, притворяясь, будто думаю, что это он, — не запирай. Я здесь.
— Прости, Мокран! — отозвалась она. — Я решила, что все уже спят.
Она опять кашлянула и ушла.
Менаш сделал над собой усилие и сказал своим прежним голосом, переливчатым и певучим:
— Ступай спать, старина! А я еще тут побуду.
Он плотно укутался бурнусом, надвинул капюшон до самых глаз и улегся на прохладные плиты. Сехджа уже умолкла, слышалась только жалобная, медлительная любовная песня, которую кто-то — вероятно, Мух — выводил нежным, ласковым голосом. Луна выглянула из-за минарета.
Я не уходил; дыхание Менаша вскоре стало ровным. Он подложил руку под голову, и по выражению его прекрасного лица с двумя безупречными дугами длинных бровей я понял, хоть глаза у него и были закрыты, что нервы его успокоились и душа вновь возвратилась в свою телесную обитель.
Когда при На-Гне, старой повивальной бабке из селения Тазга, упоминали о Менаше, она неизменно говорила: «Это ты о сыне Влаида? Так ведь его, беднягу, опоили приворотным зельем».
Менаш спал, а я смотрел на него, вспоминая всю его жизнь, и мне казалось, что На-Гне права.
Я снова увидел его таким, каким мы его знали в ту пору, когда он только еще готовился к выпускным экзаменам. С октября по июнь он жил в Фесе, где его брат торговал шелками. Когда Менаш приезжал в Тазгу на каникулы, от него веяло каким-то особенным обаянием; трудно даже сказать, чем объяснялось это обаяние: то ли изысканным изяществом его нарядов, то ли таинственностью далекой страны, откуда он приезжал, а может быть, и сногсшибательными изречениями, которыми он небрежно сыпал перед нами: «В девятнадцать лет надо брать от жизни все, что только можно…», или: «Дружеской любовью любишь потому, что…», «Страстной любовью любишь, несмотря на то что…» В тот год он привез нам и такое неприкрашенное определение любви (предложенное, по его словам, неким китайским философом): «Утоленное желание превращает любовь в ненависть».
Нельзя не признать, что в отношении Давды он это определение вывернул наизнанку, ибо начал с дикой и вдобавок совершенно беспричинной ненависти. Когда она приехала к нам, Менашу было восемнадцать лет, и он сразу же невзлюбил эту женщину, общепризнанную красавицу, почти его ровесницу, причем даже не брал на себя труда скрывать это чувство.
Он не терпел ее присутствия во дворе их дома; как-то она решилась возразить на одну из бесчисленных колкостей Менаша, но он так ее осадил, что с тех пор она при нем и рта не раскрывала. Он изощрялся в оскорблениях, изо дня в день стараясь задеть ее каким-нибудь обидным словом, намеком, стремясь своим обращением унизить ее в глазах окружающих. Как ни гордилась собою Давда, она, по крайней мере с виду, смирялась, ведь в октябре Менаш снова должен был взяться за свои любимые науки и ей приходилось терпеть его только в течение трех месяцев, которые он проводил в Тазге.
Как же случилось, что теперь Менаш при одном воспоминании о волосах Давды чуть ли не теряет рассудок?.. Мы так и не узнали, когда свершился в нем этот переворот. Бывало, он целыми часами рассказывал нам о берберийских девушках, с которыми ему случалось провести ночь, когда он по поручению брата ездил в марокканские горы продавать шелк. У него имелся длинный список женских имен, и всякий раз, слыша эти диковинные имена, мы погружались в мечты: Таму, Берри, Итто.
Всему этому конец; теперь Менаш сблизился с ватагой Уали.
Почти все мои воспоминания о Тазге связаны с Уали и его товарищами.
Мы разделялись на две соперничающие группы, и распри между нами наложили отпечаток на все мое детство.
Нас называли «таазастовцы», а тех просто «ватага».
Вокруг верзилы Уали собралась — отчасти случайно, но главным образом по инстинктивному влечению — целая ватага молодых людей — безработных, безнадежных, а подчас и бессовестных. В большинстве своем то были бедняки, а некоторые и вовсе нищие. Нам, таазастовцам, было хорошо известно, что если они частенько и пьют вволю, то едят досыта далеко не всегда. Мы же ни в чем не нуждались.