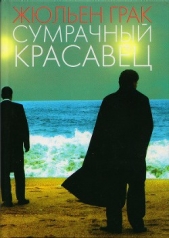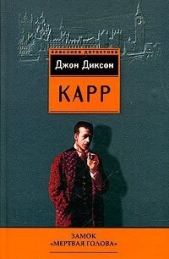Замок Арголь
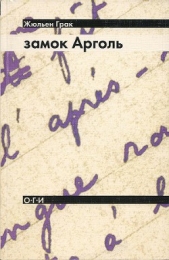
Замок Арголь читать книгу онлайн
«Замок Арголь» — первый роман Жюльена Грака (р. 1909), одного из самых утонченных французских писателей XX в. Сам автор определил свой роман как «демоническую версию» оперы Вагнера «Парсифаль» и одновременно «дань уважения и благодарности» «могущественным чудесам» готических романов и новеллистике Эдгара По. Действие романа разворачивается в романтическом пространстве уединенного, отрезанного от мира замка. Герои, вырванные из привычного течения времени, живут в предчувствии неведомой судьбы, тайные веления которой они с готовностью принимают.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Познание себя происходит лишь через познание другого. Как и в романах Новалиса, граковские персонажи обитают в мире, наполненном эхом и отражениями. Комната Герминьена, которую тайно посещает Альбер, являет ему в игре повторений и аналогий его собственный облик. В главе «Часовня над бездной» все, что было разъединено, соединяется вновь: отраженные образы героев накладываются друг на друга в зеркале реки, параллельные тропинки соединяются посредством моста, в игре органа звучит воздушный и вместе с тем мрачный мотив песни мужественного братства.
В религиозной традиции всякая встреча с двойником трактуется как борьба добра со злом. Грак берет на вооружение эту символику, но лишь для того, чтобы преодолеть ее. На место привычного антагонизма приходит идея единства противоположностей: двойник более не сатана, но сумрачный и торжествующий ангел (Герминьен). И в этой концепции двух полюсов сам Грак увидит позже начальное звено гегелевской спирали (эссе «Андре Бретон») и решения Гегелем проблемы познания. И в ней же — источник новой трактовки мифа о грехопадении — на этот раз в свете философии Гегеля. «Рука, наносящая рану, есть также рука, что ее исцеляет». На эту фразу немецкого философа, которую вспоминает Альбер, ответ дается в предпоследней главе романа в описании гравюры, принадлежащей Герминьену: Парсифаль касается своим копьем раны короля Амфортаса, смешивая тем самым грехопадение со спасением. Так рана Гейде и потом рана Герминьена приобретают характер двойственного откровения — искушения смертью и искушения знанием, что опять возвращает нас к гегелевской философии и одновременно к теме романтического двойничества.
Позволим себе еще раз процитировать мысль Мишеля Мюра: «К прозе Грака можно применить то, что сам он говорил о Риме: «Все здесь наносное, все — аллюзия. [15]Материальные отложения веков проникают друг в друга, пересекаются. Словно здесь отсутствует оригинальный туф». Рим представляется ему как его собственный язык, в котором разнородный материал приводится в состояние высочайшей гармонии посредством стиля» [16].
Мы уже говорили о том, что упразднение всевозможных приемов, которые могли бы сцементировать действие романа, придает особое значение самому языку повествования, который один оказывается способным удержать единство книги. Все исходит из стиля, и все в него возвращается. Только стиль придает фактуру тому, о чем пишет Грак, только он обладает особым свойством «намагничивания».
На самом деле даже самому непредвзятому читателю, обращающемуся к роману «Замок Арголь», ясно: писатель выходит здесь из-под власти грамматических правил и создает свой аристократический стиль. Можно сказать даже, что Грак не повествует, он словно совершает лингвистическую литургию, утяжеляя и укрупняя образы, перегружая описание эмфатическими прилагательными, типа «удивительно», «странно», «волнующе», группируя их попарно в намеренной лингвистической избыточности («дикий и пустынный», «мрачный и печальный») [17]. Движение длинных (иногда на полстраницы) и запутанных граковских фраз, порой требующих длительной расшифровки даже у самых подготовленных читателей, в большей степени определяется суггестивностью и ритмом, нежели синтаксическими правилами. Не случайно фразу Грака сравнивали с обширными «porte- a-faux» (выступом, навесом [18]). Русскому читателю подобный тип фразы может, пожалуй, напомнить стиль Гоголя с характерной для него синтаксической экспансией, порождающей в придаточных предложениях целый сонм самостоятельных образов, видений, как бы пришедших из мечты, наваждения и делающих как гоголевский, так, в сущности, и граковский мир порождением пространства грез и сна (в риторике такая фигура называется гипотипоз). [19]
«Странная фраза» обладает и странной аффективной пунктуацией, также не всегда соответствующей нормам французского языка. «Меня ведет свободное движение фразы, а не солидная структура французского синтаксиса, — пишет Грак, — который требует, чтобы, прежде чем начать шить, полотна были уже соединены вместе. А если я следую всего лишь своей естественной склонности давать каждому предложению, каждому члену фразы максимум автономии, как о том свидетельствует увеличивающееся употребление тире, которые словно подвешивают синтаксическую конструкцию, заставляя фразу в отдельные моменты ослабить вожжи?» [20]
И действительно, часто встречающееся в одной фразе употребление тире, двоеточия и курсива заставляет услышать интонацию голоса визуально [21].
Можно было бы предположить, что курсив у Грака — отчасти наследие Андре Бретона. Об использовании курсива Бретоном он напишет позже, характеризуя его как «гальванический импульс», «нервное потрясение, преображающее и оживляющее фразу», которое носит характер «настоящей сублимации». Курсив возникает из реального движения мысли, через него автоматизм прорывается в речь. И сюрреальность использует этот автоматизм, потому что все виртуальные значения слова активизируются поверх его обыденного значения, которое «на секунду оказывается приостановленным» (эссе «Андре Бретон»), Часть этих наблюдений можно было бы отнести и к тексту романа «Замок Арголь». Впрочем, у самого Грака присутствует и иное значение: курсив миметически имитирует движение мысли (это не послание читателю, но жест, своего рода подмигивание, неожиданно устанавливающее между читателем и автором отношения близости, как в частном разговоре, заставляющее читателя услышать нечто большее, чем он слышит обычно). Курсив обозначает находку, вокруг которой кристаллизуется вымысел. Иногда это может быть способ отстраниться от собственных слов или же знак абсолютного совпадения, эйфорического и даже магического, между предметом увиденным и его внутренней сущностью (ср.: «она производила не поддающееся никакому определению впечатление высоты»; «В небе каждая звезда заняла свое место с той же точностью, что и на звездной карте, создавая столь убедительную картину ночи, какой ее знали с давних пор…») [22].
Читатель этой книги несомненно обратит внимание еще на один способ отстранения в граковском тексте: сокрытие авторского «я» за грамматическими формами модальности. Речь идет о чуть ли не избыточном употреблении модальных слов и словосочетаний, типа «кажется», «словно», «как будто бы», «по всей видимости» и проч., отражающих тот дорогой сердцу Грака зазор, что существует между очевидным и невыразимым. Или, если воспользоваться его же словами, между «непреодолимой и тем не менее непонятной необходимостью». Эти формы модальности стали своеобразной визитной карточкой граковского письма, подобно тому как грамматическая форма Imparfait, как однажды заметил Пруст, всецело определила стиль Флобера.
И наконец, ритм «странной фразы» поддерживается в том числе и фонетическими созвучиями, к которым всегда был очень чуток Грак. Само название замка, хотя и существующего в действительности (впрочем, не как замок, а как небольшое селение), писатель выбирает по созвучию, которое к тому же заключает в себе анаграмму центрального для романа образа священного Грааля. По тому же принципу он создает и вымышленное название края Сторван, которое должно воздействовать на читателя своей фонетикой (сам Грак признавался в своем пристрастии к созвучиям с буквой «р»). Даже имя героини Гейде (во всяком случае, так утверждает автор) он выбирает по фонетическому принципу, всячески отрицая при том семантическую интерпретацию, которую ему пытаются «навязать» критики (Heide по-немецки означает «равнина»). Грак не занимается герменевтикой, но он вслушивается в созвучия, заставляя имена отражаться друг в друге: Грааль — Арголь, Гейде — Герминьен.