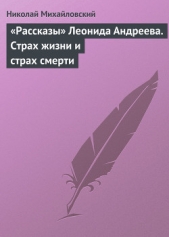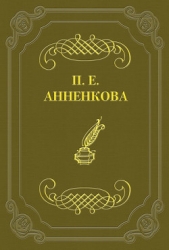Сэр

Сэр читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глава VIII
В один из моих еще до-оксфордских приездов в Лондон он предложил встретиться в клубе “Атенеум”: “Пиджак и галстук. Увы, увы, увы, пиджак и галстук”. Стояла тридцатиградусная неподвижная жара, до портика “Атенеума” я нес пиджак на одном плече, галстук на другом. В дверях привел себя в клубный вид, вошел, швейцар спросил, к кому, сказал, что “сэр Айзайа” только что звонил, что задерживается на три минуты. Мне было предложено сесть в кресло, я выбрал самое дальнее, распустил галстук – швейцар немедленно оказался возле меня: “Я боюсь, вам так будет менее удобно, чем если вы завяжете галстук”. Вошел Исайя, в темно-синей тройке: шерстяном пиджаке и жилете, застегнутых на все пуговицы, в синем галстуке и с таким же платочком, выглядывающим из верхнего карманчика пиджака. Формальность нарушали брюки, ширинка была не закрыта, что называется, руки не дошли. Он сказал, что теперь, в его, как хозяина, присутствии я могу раздеться хоть догола. Он бегло показал мне какие-то гравюры и портреты на стенах, старинный барометр и термометр – и телекс, тоже показавшийся старинным, во всяком случае, как будто помещенный в уютную домашнюю шкатулку. Из него медленно ползли сообщения, прерываемые раздумьями аппарата, передавать ли следующее, достаточно ли не неприятно для членов клуба следующее, чтобы его передавать.
Возможно, эта мысль пришла мне в голову, потому что одновременно
Исайя рассказывал о клубе, о том, что члены его – старые или очень старые люди, такие старые, что не всегда даже известно, живы ли они, и только вывешиваемый на стену портрет, вот, как, например, Диккенса, определенно удостоверяет, что человек умер.
Он пригласил меня на второй этаж пить кофе в библиотеке, и едва мы сели, как из дальнего угла к нему двинулся именно такой старый или очень старый человек, и пока он, не торопясь, приближался, Исайя сказал, что не любит стариков, не любит с ними разговаривать, не любит старость, что старики и старость – недоразумение. Хрупкий долгожитель наконец подошел, чтобы осведомить Исайю, что позавчера слышал его по радио, это было очень интересно, thank you, Isaiah, получил в ответ “thank you,
Jonathan” (или Terence, или Robin), и прежде чем он развернулся, чтобы поплестись обратно, Исайя с напором, словно бы доказав свою правоту, сказал мне по-русски: “Вот видите”.
Я спросил: а в каком виде люди существуют на том свете – средних лет; юные; старики? Он ответил: а ни в каком. Это было еще до серьезного разговора о том, что у него “проблемы с Богом” и главная “трудность в том, что слово “Бог” ничего не означает” для него. Я сказал пошучивая, примирительно: ну в каком-то небось существуют. Он поднял указательный палец и произнес, хоть и не отказываясь улыбаться, однако и не давая видимого повода для сомнений, что говорит вполне серьезно: “Ни в каком. “Того света” нет. Нет никакого “там””. Но в ту минуту я предпочел ориентироваться на улыбку.
Каково это было знать тому, чья жизнь состояла из постоянного общения с людьми, постоянного разговора, жадности к каждому новому дню, его новостям, пристального разглядывания уличной толпы, “засматривания на их головы, их лица”; тому, кого “всегда веселили люди – когда было скучно, люди приходили, и становилось более или менее весело”, тому, кто “никогда не скучал с людьми”!
“Я просто не могу себе представить, что будет день, такой же светлый, шумный и счастливый, как этот, и – без меня”.
Из этого не следует, что он коллекционировал людей,- из этого следует, что, наоборот, он не коллекционировал людей: какой смысл в коллекции, когда “там” не будет ничего, потому что нет самого “там”? Не коллекционировал, но конденсировал в себе – по-видимому, точно так, как конденсировал в себе свет, шум и счастье каждого нового дня. Его книга “Личные впечатления” – не биографии, не портреты, не аналитические статьи, а дважды нестойкие, дважды “мягче меди”, дважды склонные ускользнуть, исчезнуть, стереться записки: потому что действительно впечатления, отпечатки легких прикосновений, и потому что личные. Этот метод постижения людей и их судеб распространялся и на характер его научных знаний и знания вообще. Его характеристики человека, явления, отвлеченной категории были энциклопедически точны и полны, но в какую-то минуту том энциклопедии захлопывался, уступая место впечатлению, а лучше сказать, впуская его: живой эпизод, анекдот, остроту, афоризм.
Однажды разговор на тему о русской эмиграции свернул на
Билибина, его одноклассника, сына известного художника. “Да, да.
Это был единственный русский мальчик в Англии, которого я знал в детстве. Потому что он был в моей школе, в том же классе.
– В той же деревеньке, в Сербитоне?
– Нет, нет, нет – когда я был в Лондоне в школе. В Saint-Paul
School, в Сент-Пол. В Сербитоне я был только год.
– А какова судьба Билибина?
– Он только что умер. Он был царедворцем у претендента на русский престол. Всю жизнь это делал. Иван Билибин. Его отец был художник. Он умер, по-моему, в прошлом году.
– Вы поддерживали с ним отношения?
– Нет, не особенные. Я его встречал, может быть, раз в двадцать лет. Где-то, когда-то – когда мы были в хороших отношениях.
Потому что я его знал только в школе, потом мы разошлись. Он сделался просто официальным монархистом, это была его карьера.
– Вот на это я слаб, это я у вас обожаю: “Такой-то; сын художника; профессиональный монархист. Это все замечательно, но мне он был мил тем, что ходил в школу в форменных коротких штанишках”.
– Понимаю. Нет, я просто его знал, он был полурусский, мать была англичанка – первая жена, или единственная жена, не знаю,
Билибина, художника, и поэтому они приехали в Англию. Они были очень бедны: когда я к ним заходил в школьный мой период, давали черный хлеб с солью и тому подобные вещи – никогда много пищи не было. Потом он был в Оксфорде. В Оксфорде я не очень видел его – видел раз в год, может, два раза в год. А потом он уехал куда-то к претенденту, где он там жил, не знаю – Кобург, Испания, Бог знает где – тогда я с ним потерял отношения. Но – ото времени до времени я почему-то нечаянно с ним встречался. В каком-нибудь месте, на концерте, на, не знаю, в музее, что-то в этом роде…
– У вас были дружественные отношения.
– Вполне, вполне.
– А он к вам домой приходил в школе?
– Никогда”.
Все. Два мальчика в униформе школы Сент-Пол, черный хлеб с солью, царедворец в боярском костюме, которые так досконально рисовал его отец… Как быть, как поступить, если нет его самого, Исайи Берлина, чтобы так же, в той же манере – словарно строго преподав суть и не упустив подробностей, а затем неожиданно иллюминировав текст почти домашней зарисовкой и сердечной вспышкой – сказать о нем, об “Исайе Берлине”?
Сказать не получается, приходится пересказывать.
Интервью, какой бы вид оно ни принимало: вульгарно записываемых на диктофон вопросов-ответов или доносимых до дому по памяти фрагментов разговора и там “по свежим следам” предаваемых дневнику – всегда журнализм, и журнализм не очень высокого разбора. Берлин, естественно, никогда не “вещал”, я никогда не
“внимал”, когда мы встречались и что-то обсуждали или просто болтали. Брать у него интервью так же не могло прийти мне в голову, как во время ланча с ним не есть то, что ложится на тарелку, а заворачивать в салфетку и уносить с собой “на потом”.
Но начиная с середины 90-х общая наша знакомая – гораздо более близкая моя, нежели его,- стала регулярно и настойчиво убеждать меня, что я “должен” это сделать. Так как ее причины, почему я
“должен”, не были моими, то в споре со мной ей приходилось подверстывать свои доводы под ту простую логику, что “должен”, потому что “могу”: “Потому что он рад будет такому разговору с тобой”. Словом, вся затея и ее обоснования оказывались, как принято было говорить в дофеминистские времена, типично “женскими”.
Наше с ней знакомство состоялось в Оксфорде, и благодаря