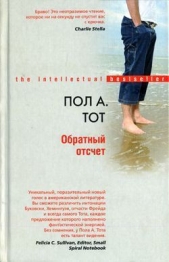Клеменс
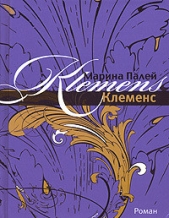
Клеменс читать книгу онлайн
Правомерно ли назвать этот роман гомоэротическим? Да - в той же степени, в какой "Лолиту" в свое время именовали романом порнографическим. "Klemens" захватывает предельной напряженностью любви и ненависти, мастерским языком, щедрой палитрой стиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Клеменс. – Шайсе!..^28 А у нас, кроме сыра, ничего и нет".
За окном был двор, обрамленный по периметру другими обшарпанными и полуобшарпанными зданиями. Улицы за ними видно не было. Во дворе росли деревья и щебетали птицы. Их пение усиливалось эхом. Все это порождало довольно странное чувство: он знал, что находится в
Берлине, но никаких доказательств тому не было. Следовательно, он мог забыть, где находится, а потом так и не вспомнить – либо заставить себя вспомнить и следующим усилием воли поверить. Впрочем, какая разница – где?
Клеменс поставил скромное угощение на стол. Себе он налил только чаю – в высокую синюю керамическую кружку. Затем посадил ребенка к себе на колени – и продолжил кормление. Сейчас это был десерт – клубничный йогурт.
"Хорошо, что горло умеет глотать автоматически, – думал Майк, глядя на вперившегося в него ребенка. – Мы с тобой, брат, отличаемся друг от друга только размером и условным именем". "Как его зовут,
Клеменс?" – "Дита", – сказал тот. "Дитер?" – уточнил на русский манер Майк. "Йа".
Ребенок на руках у Клеменса – это такая тема, которой касаться не надо. Не надо, потому что не надо! Ну, если хочешь перевернуть себе душу – насмерть перевернуть – тогда вперед. Тогда, конечно, валяй!
Самое ужасное в этом было то… То есть неожиданное в этом было то…
Безысходное, гибельное – ух, мерзость приблизительных слов! Тщета звукового сора вообще! Погань и блудодейство! Самое главное в этом было то, что Майку захотелось стать женщиной, матерью этого ребенка, будь он трижды проклят.
"А собака у тебя откуда?" – спросил он Клеменса (словно откуда ребенок, было понятно). "А, это Виллема", – сказал Клеменс и отпил из кружки. "Ой, забыл! – воскликнул Майк. – У меня же кое-что для тебя есть!.." – и с радостью – все при деле – полез в свою спортивную сумку…
…Потом они в довольно скупых словах (тон задавал Клеменс) обсудили все бытовые неурядицы на бытовом пути к этой бытовой встрече. Под таким углом зрения картина выглядела следующим образом: я звонил… было занято… потом никто не подходил… потом я уехал… потом ты не приехал…потом он ушел… я не позвонил… они ушли… не пришли… хотел звонить, но не смог… болел… не писал… Словно пули со смещенным центром тяжести, эти словечки постепенно так разворотили Майку нутро, что на него напала постыдная нервная зевота. "Хочешь спать?" – невозмутимо спросил Клеменс. "Не-е-е-а-а-а… что ты…" – яростно зевая, сказал Майк. "Посиди пока, – сказал
Клеменс. – Я пойду его уложу. Чаю еще хочешь?"
Оставшись один, он разглядел кухню и собаку. Кухня была очень просторная, что только подчеркивало ее запущенность. Ее нельзя было бы назвать необжитой, она была скорее отжитой – по углам, держа последнюю оборону перед выбросом на помойку, теснился хлам, и только в самом центре существовал островок текущей жизни, именно он и держал ее оборону, – островок с круглым столом и низко висящим над ним апельсиновым абажуром. Пес был огромный, изо рта у него торчал язык, словно ошметок недопроглоченного, недопережеванного животного; при самом грозном своем виде он, заглядывая незнакомцу в глаза, беспрерывно вилял хвостом – первый признак дворняги.
Майк поймал себя на чувстве, что мучительно скучает по Клеменсу.
Нет, не потому, что тот ушел в другую комнату. Еще больше, пожалуй, он скучает по Клеменсу, когда видит его. Что за окаянство?!
Наверное, изображения совместились не полностью. Они лишь мощно соударились. И, как вагонные буфера, расплющили неосторожное сердце.
"Ну что, Йош, – появился в дверях Клеменс. – Хочешь гулять?" Всю фразу он произнес на немецком – и только вместо "spazieren"^29 сказал по-английски "to walk". Его дипломатия была понятна: произнеси он это магическое слово привычным для собаки образом – и начнется лай, который разбудит ребенка. А тогда зачем вообще что-то говорить собаке? Значит, фраза была сказана в какой-то степени для него, Майка. Данке шён. Тут же выяснилась и вторая причина, по которой Клеменс не захотел преждевременно обнадеживать пса. "Ты посидишь полчаса, пока мальчик спит? Виллем обещал давно быть, а его нет. А Йош с самого утра не…" – "Посижу, конечно". – "Спасибо. Бери, что хочешь – чай, бутерброды. Кури в окно". – "Слушаюсь, сэр".
И они ушли.
("Вот как я долго в гостях у Клеменса – он успел даже уйти, а потом придет… Абсолютно точно придет. Я даже смогу услышать, как он открывает дверь. Он откроет дверь своим ключом, как делал это в
Питере, и войдет как ни в чем не бывало, даже не кивнув, может, только бросит: "Ну как?" – и тут же пойдет к себе – именно так оно и происходит между людьми, которые сто лет живут вместе… Нет, в данном случае Клеменс спросит: "Дита не просыпался? Не плакал?" – и совсем неформально он это спросит…")
Он выкурил еще одну сигарету, когда раздался звук ключа. "Так быстро? – пронеслось в голове. – Я даже не успел начать ждать…"
Но шаги он услышал другие и – инстинктивно (защитить ребенка) – выскочил в коридор. Прямо на него направлялся парень – он был ярко выраженного пикнического типа, чернявый, не очень крепкого, но, безусловно, грубого телосложения и с некоторыми нарушениями в поступательности движения, что, скорее всего, отражало его накаченность пивом. Он безучастно прошел мимо Майка в кухню, как если бы Майк был просто добавочной дверью, причем широко распахнутой. Возле плиты он, явно сосредоточившись, оживился, снял крышку с большой синей кастрюли и, подхватив в раковине грязную вилку, начал яростно наматывать спагетти. Получился огромный сероватый кляп, который он тут же всадил себе в рот. Именно в этой позиции он что-то заинтересованно промычал, помогая себе жестами. (В переводе это, видимо, означало: "А где эти-то?") "Дита спит, а
Клеменс вышел прогулять Йоша", – ответил Майк на самом "royal" из своих английских. Чернявый одобрительно кивнул. ("Кого-то он мне напоминает… Кого?.. Гибрид Упса с Варсонофием, что ли?")
"А меня зовут Виллем, – после третьего "кляпа" на ужасном английском проскрежетал чернявый. Затем начал рыгать – обстоятельно, всеми закоулками пивного нутра, поковырялся в зубах, подустал и, садясь за стол, миролюбиво спросил: – А тя?" Майк ответил. "Сигаретой не угостишь?" – продолжил Виллем. Майк угостил.
Дальнейшая сцена в воспоминании Майка идет, условно говоря, на условном языке. Как переводчик он привык к тому, что мир огромен и в нем то и дело сталкиваются люди, говорящие на языке, который не является родным для обоих. Скажем, китаец и чилийка, встретившись где-нибудь в австрийских Альпах, говорят по-французски. Хорошо, если они там просто катаются. Если же они там очень и очень не просто скитаются, их чужеродность имеет, как минимум, пятую степень: языку этой страны, который они не знают; самой стране, которая их в себя не впускает; языку третьей страны, на котором они говорят еле-еле
(притом каждый со своим акцентом); стране происхождения, которая их из себя выдавила; друг другу.
А ведь именно точная речевая характеристика (особенно в ситуации неработающего общения) дает четкую голографию персонажа, заодно дактилоскопируя его собеседника.
Однако для переводчика с языка тридевятого государства на язык, которым плохо владела Татьяна, тут всегда крышка, тупик, пат.
Окружающие Майка – в каком уж поколении! – поражены, даже ошарашены – фактом, что за пределами их Отечества, оказывается, живут нерусские племена, притом говорящие не по-русски. А уж про ломаный язык, на коем гутарит половина человечества (лучшая, ибо пассионарная – это мигранты), они не хотят и слышать.
Куда деваться от вас, бояре, прозябающие с рождения до гроба в трусливых оранжерейках Садового кольца – заскорузлые, протухшие, совсем слабо верящие, что жизнь на других меридианах и в самом деле возможна, – бояре, которые, спрашивая, который час, говорят: "Хау мэни тайм?" – и пускают злого духа под шубу… Никуда от вас не деваться! Мой язык – с головой разве что оторвать – намертво прирос к вашим задушевным кастетам – как у ребенка, что на лютейшем морозе лизнул амбарный замок. Стало быть, исполать вам, будьте вы прокляты!