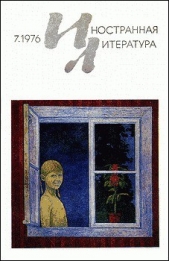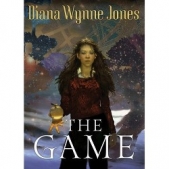Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10 1/ 2главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. В книге «Нечего бояться» он размышляет о страхе смерти и о том, что для многих предопределяет отношение к смерти, — о вере. Как всегда, размышления Барнса охватывают широкий культурный контекст, в котором истории из жизни великих, но ушедших — Монтеня и Флобера, Стендаля и братьев Гонкур, Шостаковича и Россини — перемежаются с автобиографическими наблюдениями.
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ренар в своем «Дневнике» выразил одно замысловатое желание, сложное не только психологически, но и в плане смысловой нагрузки. Ему хотелось, чтоб его мать была неверна отцу. Считал ли он это справедливой местью за отцовскую пытку молчанием; или от этого мать стала бы более раскованной и приятной в общении; или неверность собственной матери нужна была ему, чтобы еще более снизить ее оценку? Когда моя мать уже овдовела, я написал рассказ, действие которого происходит в узнаваемых декорациях родительского загородного домика (позднее я открыл для себя, что в терминологии агентов по недвижимости это называется «шале супериор»). Вдобавок я использовал базовые схемы родительских характеров и типов взаимодействия. Отец (постарше, тихий, ироничный) заводит роман с вдовой доктора, живущей в соседней деревне; когда об этом узнает мать (раздражительная, острая на язык), она бьет мужа тяжелой французской сковородой по голове — такую нам предлагают версию, хотя полной уверенности в ней нет. Все действие — и все страдания — мы видим глазами их сына. И хотя рассказ мой основывался на подслушанной где-то истории про семидесятилетних стариков, которую я просто развил на почве семейной жизни собственных родителей, я не обманывал себя относительно своих намерений. Я хотел дать отцу посмертный — задним числом — шанс немного повеселиться, возможность пожить другой жизнью, подышать полной грудью, материнский же характер я гипертрофировал до безумных и преступных наклонностей. Не думаю, что отец поблагодарил бы меня за этот литературный подарок, нет.
В последний раз я видел отца 17 января 1992 года, за тринадцать дней до его смерти, в больнице Уитни, что минутах в двадцати езды от дома моих родителей. Я договорился с мамой, что на этой неделе мы навестим его по отдельности: она в понедельник и среду, я в пятницу, она в воскресенье. Я планировал стартовать из Лондона, пообедать с ней, после чего навестить папу и уехать обратно в город. Но когда я приехал домой (место, где жили родители, я по-прежнему называл домом, хотя у меня давно уже был свой дом), мама отменила все наши договоренности. На то были свои причины: она говорила что-то про белье и еще про туман, но главной причиной была, конечно, она. За всю свою взрослую жизнь я не припомню ни одного случая — кроме той специально подстроенной литературной поездки по магазинам, — когда бы нам с отцом дали побыть наедине хоть какое-то время. Мать, даже если ее не было в комнате, присутствовала всегда. Едва ли она боялась, что о ней станут говорить у нее за спиной (в любом случае, о ней я бы хотел поговорить с отцом в последнюю очередь); просто ни одно событие в доме или за его пределами не считалось действительным без ее присутствия. Поэтому она всегда и присутствовала.
По приезде в больницу мама поступила следующим — опять-таки весьма характерным для нее — образом, отчего тогда меня передернуло, а теперь, вспоминая об этом, я прихожу в ярость. Когда мы подошли к папиной палате, она сказала, что зайдет первой. Я подумал, что она хочет проверить, все ли у него «прилично», или по какой-либо иной супружеской надобности. Но нет. Оказывается, она не сказала отцу, что сегодня приеду я (но почему — надзор, информационный контроль,по крайней мере), и это, мол, будет для него приятный сюрприз. И она зашла. Я остался в коридоре, но увидел отца — он сутулился в кресле, уронив голову на грудь. Она поцеловала его и сказала: «Подними голову». А потом: «Смотри, кого я тебе привела». Не «смотри, кто к тебе пришел», а «смотри, кого я тебе привела».Мы провели у него с полчаса, причем пару минут мы с отцом потратили на обсуждение матча кубка Англии по футболу («Лидс» — «Манчестер юнайтед» 0:1, забил Марк Хьюджес), который мы оба смотрели по телевизору. Иными словами, все было как и предыдущие сорок шесть лет моей жизни: вечно присутствующая, болтающая, суетящаяся, организующая, контролирующая мама и отец, отношения с которым сведены до случайного взгляда или подмигивания украдкой.
Первое, что она сказала ему в моем присутствии, было: «Ты выглядишь получше. В прошлый раз, когда я приходила, ты выглядел ужасно, просто ужасно». Затем она спросила его: «Что ты делал?» — вопрос показался мне идиотским, как, впрочем, и папе, который ничего не ответил. Далее последовали рассуждения о просмотренном по телевизору и прочитанном в газетах. Но что-то загорелось в отце, и спустя пять минут он, раздраженный вдвойне от того, что говорил уже с трудом, выдал в ответ: «Ты все спрашиваешь меня, что я делал. Ничего».В словах его звучала страшная смесь разочарования и отчаяния («Из всех слов самое правдивое, самое точное, самое осмысленное — это слово “ничего”»). Мама предпочла пропустить это мимо ушей, как если б отец впал в дурные манеры.
Когда мы уходили, я, как всегда, пожал ему руку, левую положив на плечо. Он дважды сказал «до свиданья», и голос его сорвался на неестественно высокий хрип, тогда я отнес это на счет возможных неполадок с гортанью. Позднее я думал, знал ли он или догадывался, что никогда больше не увидит младшего сына. За всю свою сознательную жизнь я не припомню, чтобы он хоть раз сказал, что любит меня; я тоже ничего такого ему не говорил. Уже после его смерти мама сообщила мне, что он «очень гордился» своими сыновьями; но об этом, как и о многом другом, приходилось только догадываться. Кроме того, она удивила меня, сказав: «Вообще-то он был одиночка», и добавила, что его друзья стали ее друзьями и что под конец она стала им ближе, чем он. Не знаю, было это правдой или очередным проявлением огромного самомнения.
За пару лет до смерти отец спросил, нет ли у меня «Мемуаров» Сен-Симона. У меня они были, и в весьма щегольском издании — двадцать томов в багряном кожаном переплете, ни один из которых я еще не открывал. Я принес ему первый том, который он обработал в один присест; и затем, навещая его, по первому требованию приносил следующий. Когда кухонные обязанности освобождали нас от присутствия матери, он, сидя в своем кресле на колесиках, пересказывал мне какой-нибудь эпизод ожесточенных политических интриг при дворе Людовика XIV. На определенном этапе увядания повторный инсульт заметно подорвал его умственные способности: мать рассказывала, что трижды ловила его в уборной, когда он собирался пописать в электробритву. Однако читать Сен-Симона он продолжил и умер на середине шестнадцатого тома. Красная шелковая закладка и сейчас на последней прочитанной им странице.
Согласно свидетельству, причиной смерти моего отца были: а) инсульт; б) болезнь сердца; в) абсцесс легкого. Именно от этого его лечили последние восемь недель его жизни (и какое-то время до этого), но умер он от другого. Он умер — если отбросить медицинскую терминологию — от того, что жутко устал и оставил надежду. И «оставил надежду» не является здесь моральным суждением. Или, скорее, является и выражает восхищение: в его случае это единственно верная реакция разумного человека на непоправимую ситуацию. Мать говорила, хорошо, мол, что я не видел его перед самой смертью: он весь ссохся, перестал есть и пить, ни с кем не разговаривал. Только во время ее последнего посещения на вопрос, узнает ли ее, он ответил: «Думаю, ты моя жена». Возможно, это были его последние слова.
В день, когда отец умер, свояченица по телефону из Франции убеждала меня, что этой ночью мама не должна оставаться в доме одна. В этом она была не одинока, еще мне посоветовали прихватить снотворного (чтобы уснуть, а не для самоубийства или убийства, конечно). К моему приезду — весьма неохотному — мать отнеслась со здоровой иронией. «Вот уже два месяца, как я ночую в этом доме одна, — сказала она. — Теперь-то что? Они что, решили, что я…» Она замолчала подыскивая слова, чтобы закончить предложение. «…В петлю полезешь?» — предложил я. Она приняла предложение: «Они что, решили, что я в петлю полезу, или разрыдаюсь, или еще каких глупостей наделаю?» После чего выразила живое отвращение к ирландским похоронам: с толпами скорбящих, прилюдными воплями и вдовой, которую придерживают с обеих сторон. (Она и в Ирландии-то никогда не была, не говоря уж — на тамошних похоронах.) «Они что, думают, меня придется кому-то поддерживать?» — язвительно спросила она. Однако, когда пришел гробовщик, чтобы обсудить ее пожелания — самый простой гроб, веточка роз без всяких ленточек и, главное, без целлофана, — в какой-то момент она прервала его: «Не думайте, что я не скорблю по нему, только потому, что…» На этот раз заканчивать предложение не было нужды.