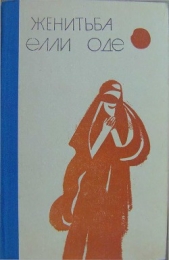Гон спозаранку
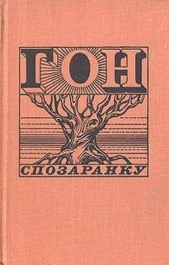
Гон спозаранку читать книгу онлайн
Рассказы американских писателей о молодежи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я достал его и бросил ей.
— Давай поиграем.
Но она прижала мяч к груди и скорчила гримасу.
— Мама не велит мне играть с черномазыми.
Я не знал, что означает это слово, но моя кожа стала горячей. Я показал ей язык.
— Ну и не надо, играй одна со своим дрянным мячом. — И я пошел дальше.
Она завизжала мне вслед:
— Черномазый, черномазый!
Я обернулся и закричал:
— У тебя мать черномазая!
Вернувшись домой, я спросил у своей матери, что означает это слово.
— Кто тебя так назвал?
— Один человек.
— Кто?
— Просто один человек.
— Иди умойся, — сказала она. — Грязный как поросенок. Ужин на столе.
Я пошел в ванную, умылся без мыла и вытер полотенцем лицо и руки.
— И это, по-твоему, умывание? — сердито закричала мать. — Иди-ка сюда!
Она потащила меня назад в ванную и принялась намыливать мне лицо и шею.
— Будешь ходить таким грязнулей, так тебя все будут звать черномазым!
Она ополоснула мне лицо водой, проверила мои руки и вытерла меня досуха.
— А теперь иди ужинай.
Я молча пошел на кухню и сел к столу. Помню, как мне хотелось плакать. Мать села напротив.
— Мама, — сказал я. Она посмотрела на меня. Я заплакал.
Она бросилась ко мне и обняла меня.
— Не плачь, малыш. В другой раз, если кто назовет тебя черномазым, скажи ему: лучше быть черным, чем таким подлым и злым, как некоторые белые.
Когда я подрос, мы, мои друзья и я, стали ходить вместе. Когда мы видели где-нибудь за забором белых мальчиков с их друзьями, мы швыряли камни и жестянки в них, а они в нас.
Я приходил домой в крови. Мать шлепала меня, бранила и плакала.
— Хочешь, чтобы тебя убили? Хочешь кончить, как твой отец?
Мой отец был непутевый, я не видел его ни разу. В его честь меня и назвали Питером.
У меня были бесконечные неприятности — со школой (из-за прогулов), с общественностью и со всеми жителями городка.
— Нет, не выйдет из тебя ничего путного! — повторяла мать.
Один за другим ребята постарше кончали Школу, шли на работу и обзаводились семьями. Обзаведутся семьей, произведут на свет новых чернокожих младенцев, вносят ту же самую плату за те же самые развалюхи — и так без конца…
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я убежал. Я оставил записку, в которой написал, чтобы мама не волновалась — когда-нибудь я вернусь и все будет хорошо. Но, когда мне исполнилось двадцать два, она умерла. Я вернулся Похоронить ее. Все было такое же, как прежде. Наш дом за эти годы не красили, крыльцо осело, а разбитое окно было заткнуто чьим-то дождевиком: въезжала другая семья. Их мебель стояла в беспорядке у стен, их дети с визгом носились по всему дому, на кухне кто-то жарил свиные отбивные. Старший мальчик прибивал зеркало.
В прошлом году Ида взяла меня прокатиться на своей большой машине, и мы проехали через пару глухих городишек. Мы ехали и увидели на левой стороне дороги несколько полуразвалившихся домишек; ветер развевал на веревке белье.
— Неужели здесь живут? — спросила Ида.
— Всего лишь негры, — ответил я.
Ида поехала дальше, сердито молотя кулаком по гудку.
— Питер, ты понимаешь, что становишься параноиком?
— Хорошо, хорошо, знаю: с голоду умирает также много белых.
— Представь себе — да. О бедности я кое-что знаю.
Ида — из семьи ирландских бедняков. Выросла в Бостоне. Очень красивая женщина, вышедшая замуж рано, к тому же ради денег («Так что теперь я сама могу содержать привлекательных молодых людей», — со смехом говорила она). Ее муж был балетный танцовщик — вечно в разъездах; Ида подозревала, Что его интересуют мальчики. «Вообще-то мне наплевать, — говорила она, — лишь бы меня не трогал». Когда мы познакомились в прошлом году, ей было тридцать, а мне — двадцать пять. Связь была довольно бурная, но прочная. Когда я приезжал, я всегда ей звонил; если где-нибудь в другом городе оказывался на мели, всегда обращался к ней за помощью. Вылиться нашим отношениям во что-то серьезное мы не позволяли: она шла своей дорогой, я — своей.
В бесконечных скитаниях я кое-чему научился. Как боксер научается принимать удары или танцор падать, так я научился жить. В частности, научился никогда не спорить с полицейскими. Я понял, что всегда окажусь неправым. То, что в ком-нибудь другом будет воспринято как добрая старая американская независимость, во мне посчитают недопустимой наглостью. После нескольких инцидентов такого рода я понял: надо ловчить, надо играть роль, которой от тебя ждут. Голова у меня одна, и потерять ее слишком легко. Когда передо мной вырастала фигура полицейского, я прикидывался дурачком, опускал нижнюю челюсть и широко открывал глаза. Я не умничал с ним: никаких глупостей насчет прав. Соображал, каких он ждет от меня ответов, и их ему и выдавал. Не допускал, чтобы он хоть на секунду перестал чувствовать себя властелином. Если речь шла не об обычной проверке, если задерживали меня по подозрению в грабеже или убийстве, случившихся в округе, я становился таким тихоней, что дальше некуда, помалкивал в тряпочку и молился. Пару раз меня избили, но до тюрьмы дело пока не доходило. Как заметила однажды Ида, помимо прочего мне просто везло,
— Может, лучше было бы, если бы тебе везло немного меньше. Человека могут постигнуть вещи худшие, чем тюрьма. С некоторыми ты знаком.
В ее голосе было нечто такое…
— Ты это о чем? — спросил я.
— Не лезь в бутылку, я сказала — могут.
— Ты хочешь сказать, что я трус?
— Я не говорила этого, Питер.
— Но именно это имела в виду, разве не так?
— Нет, не так, и вообще никак. Не будем ссориться.
В некоторых ситуациях негр может пользоваться цветом своей кожи как щитом. Может спекулировать на подспудном чувстве вины англосакса и таким путем получать то, что хочет, целиком или, на худой конец, частично. Может спекулировать на себе как источнике неудобств или запретном плоде; может действовать цветом кожи как ножом, поворачивая его то так, то эдак, и таким путем мстить. Все эти истины я знал задолго до того, как понял, что я их знаю, и сначала пользовался ими, не понимая, что делаю. Потом, когда начал понимать, у меня возникло чувство, будто меня предали, чувство, что я побит как личность, лишен честной позиции.
Это произошло за год до знакомства с Идой. Я играл в паевых труппах и небольших театриках иногда неплохие роли. Народ ко мне относился хорошо. Говорили, что у меня талант, но говорили печально, словпо думая: «Как жаль, ведь он ничего не добьется». Я дошел до того, что мне стали невыносимы похвалы и невыносима жалость, и меня все время мучил вопрос: что думают люди, когда пожимают мне руку? В Нью-Йорке я цопал в очень приятную компанию — свойские, не дураки выпить, богема, я пришелся им по нраву: но доверял ли я им, был ли я вообще в состоянии доверять кому бы то ни было? Не на поверхности, доступной взгляду каждого, а под ней, где все мы живем.
Надо было вставать. Я заслушался музыкой Людвига. Он сотрясал маленькую комнату поступью великана, шагающего за мили отсюда. Летними вечерами (может, побываем там и этим летом) Жюль, Ида и я отправлялись в летний театр в Бронкс и садились под колоннами на холодные каменные ступени напротив эстрады. Оттуда небо казалось мне далеким-далеким, и я был не я — я парил где-то высоко над землей. Мы молча сидели и смотрели на кольца синего дыма, на оранжевые кончики сигарет. Время от времени по крутым ступеням взбегали, громко переговариваясь, мальчишки, торгующие лимонадом, воздушной кукурузой и мороженым. Ида чуть меняла позу и поправляла свои иссиня-черные волосы; Жюль хмурился. Я сидел, уткнувшись подбородком в колени, и смотрел на полумесяц света внизу, на извивающегося дирижера в черном фраке, на безлицых людей под ним, колышущихся в ритме моря. Временами музыка оркестра стихала, словно уступая дорогу набегающему, зовущему, запинающемуся роялю. Умолкало все, кроме карабкающегося ввысь соло; наконец, оно достигало вершины, и все присоединялись к нему, сначала скрипки, а за ними медные; а потом глубокий, печальный контрабас, и флейта, и яростно топчущие все на своем пути барабаны, бьющие, бьющие, взбирающиеся все выше и останавливающиеся вдруг с грохотом, подобным рассвету. Я был один, когда в первый раз услышал «Мессию»; моя кровь вскипела вином и пламенем; я плакал как ребенок, просящий материнского молока, или как грешник, бегущий навстречу Иисусу.