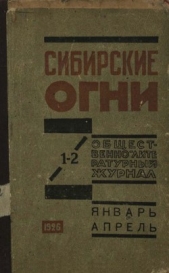Сентябри Шираза

Сентябри Шираза читать книгу онлайн
Первый, во многом автобиографический роман Далии Софер «Сентябри Шираза» рассказывает о жизни Ирана восьмидесятых годов через историю семьи процветающего еврейского ювелира Исаака Амина, вынужденного после тюремного заключения и пыток бежать из Ирана.
«Нью-Йорк таймс» включила «Сентябри Шираза» в список лучших романов 2007 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот эти, — показывает она на них.
— Глаз-алмаз, — говорит Али-ага, снимая туфли с помощью длинного шеста. Он ставит их на прилавок, чтобы показать качество работы, она проводит рукой по коже, переворачивает, смотрит на подошвы.
— Отличная работа, Али-ага. Спасибо!
Сапожник опускает туфли в пакет, передает Фарназ, она забирает их — так вдова забирает из морга тело мужа — и идет домой; пакет болтается на запястье, туфли хлопают по ноге — они будто недовольны, что она нарушила их покой.
Глава тридцать четвертая
Он видит мир в черно-белых тонах: грязный снег, низко нависшее небо, серые бетонные стены — пятна воды въедаются в них как пролитые чернила — и собственную кожу, обтянувшую тело пепельно-серой патиной. Раны на ногах и те не красные — они покрылись струпьями. Теперь ему кажется, что цвет присутствует только в его воображении: красные порезанные и посоленные помидоры на обеденном столе, насыщенно-синее кольцо Фарназ, отливающие на солнце янтарем волосы дочери. В молодости он пренебрегал цветом — на шее у него, как жетон у собаки, болтался заправленный черно-белой пленкой фотоаппарат. В первые годы после свадьбы где только он не снимал Фарназ — в парках, чайных, в гостиной — она сидит, задрав голые ноги на журнальный столик; в видоискателе она выглядела актрисой, слегка раздраженной частыми съемками, но одновременно польщенной вниманием. На ту же черно-белую пленку он снимал и детей. Он предпочитал потаенность оттенков серого откровенности цвета, считал серый более содержательным, ностальгическим, более уместным для воспоминаний. Однако со временем ему стало не хватать цвета. Он поменял пленку и сравнил ее с прежней: не в пример его жизни, снимки стали более яркими, они не хуже картин запечатлевали порывы чувств.
В камере холодно. Он отходит от окна, ложится на пол, заворачивается в кусок дерюги, заменяющий одеяло. Пытается выковырять из дерюги насекомых, но они прячутся между нитей. Да ну их. В пасмурные дни вроде этого сложно определить время: должно быть, уже полдень, но неужели он может тянуться так долго?
Что сказала ему тогда в Севилье старая гадалка? По настоянию Фарназ он сел к столу, где она разложила карты, и будущее предстало перед ним в виде рыцарей и замков.
— Пять чашей, — сказала гадалка на ломаном английском и добавила: — Ay, Dios mio, la tarjeta de la muerte también, el número trece [49] — карта смерти, сеньор.
Карты — на одной изображен согбенный старец в черном, на другой — скелет в средневековых доспехах на белом коне — ужаснули его. На остальные карты — на них изображались маги, колесницы, жрицы — он и смотреть не стал, после тех двух какое они имели значение? В этот душный андалузский вечер он — ни жив ни мертв — сидел в тесной комнатушке с красным бархатным занавесом, откуда украшенная арабесками лестница вела в мезонин. Исаак еще при входе заметил там маленькую альбиноску, она наблюдала за посетителями сверху. Теперь даже ей, подумал он, известно, какая у меня незавидная участь.
— Не тревожьтесь, сеньор, — сказала старуха, дохнув на него чесноком. — La tarjeta de muerte [50] вовсе не означает смерть. Это конец одного куска жизни и начало другого.
Позади гадалки поднимался, уходя в мезонин, дымок померанцевой травы; альбиноска таращила на него глаза в белых ресницах и хихикала.
— Старец-то? — продолжала старуха. — Да, он тоже означает потерю. Но гляньте перед его согбенной фигурой пустая чаша. Присмотритесь, и вы увидите позади него две полные золотые чаши. Просто, уважаемый сеньор, перед вами закроется какая-то дверь. Только и всего.
Только и всего? Помнишь, моя дорогая Фарназ, как винилась ты в тот вечер, как побледнела, как смеялась и пожимала плечами, утешая меня точно мать ребенка: «Чепуха какая! Эти так называемые ясновидцы любят нагнать страху. И думать об этом позабудь». Но я не забыл, не забыла и ты. Позже, в ресторане, когда мы стояли у бара с закусками, пытаясь найти забвение в сангрии, ты притихла, даже загрустила. В конце концов, разве не ты затащила меня к гадалке — в отместку за испытание, которому я подверг тебя днем? «Нет-нет, я не могу смотреть, как убивают животных», — твердила ты. Но я настоял на своем, купил билеты. Мы сидели у арены, солнце пекло, матадор в расшитом костюме вонзал в огромных, обреченных на смерть животных одну, вторую, третью, четвертую бандерилью, и на каждый удар толпа отвечала восторженным криком. Я смотрел на тебя, видел, как тебе тяжело, но гнул свою линию: «Ничего с ней не случится. Разве можно побывать в Севилье и не посмотреть корриду?» Так что ты, Фарназ, отомстила мне, и тебя мучили угрызения совести. Как и меня.
Он открывает принесенный Хосейном Коран, читает первый попавшийся аят, вспоминая арабский, который учил в старших классах. Куль аузу бираббиль фаляки Мин шарри ма халяка, «Скажи: „Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что он сотворил“» [51]. Он читает вслух: слабый, хриплый голос кажется чужим, тем не менее чтение успокаивает. Читать вслух непривычно. В последнее время он чаще слушал. Вечером засыпал, слушая Би-би-си под треск коротковолнового приемника, просыпался под звуки утренней программы и национального гимна. Когда дети были маленькими, он слушал, как им читает жена — сказки оказывались занятнее газеты. Почему же сам он, в молодости мечтавший стать писателем, детям не читал? Почему думал, что хоть читать детям и необходимо, ему заниматься этим недосуг, читать должна Фарназ: у женщин уйма времени. Иногда за столом в конторе он вспоминал строчки любимого стихотворения: «Встану я, и пойду, и направлюсь на Иннисфри, / И дом построю из веток, и стены обмажу глиной» [52]/ или «Где благочестье — и где я, хмельной? / Длинна дорога между им и мной. /Что общего меж риндом и аскетом? / Там — проповедь, здесь чанг звучит струной» [53]. Неожиданно пришедшие на ум стихи радовали, сердце от них щемило, как от воспоминаний о юношеской влюбленности, но он тут же отгонял их — принимался за бумаги, которые требовалось срочно подписать.
Он выглядывает в окно: опять идет снег. Он ложится на матрас, смотрит, как снежинки ласкают воздух, нежные, точно осенняя паутинка. В этот вечер в тюрьме спокойно: не слышно ни лязга замков, ни шагов во дворе, ни топота малыша наверху. Даже муравьи, сгрудившиеся у крупинок сахара, движутся четко, выверенно, будто шагают в такт неслышной ему симфонии. Он засыпает, умиротворенный воцарившимся порядком, и, когда его будит знакомый лязг ключей, думает, что ему это видится во сне.
— Брат Амин! Вставай!
Он открывает глаза: перед ним три охранника.
— Следуй за нами, — говорит один. Двое других подхватывают его под руки, ставят на ноги.
Он пытается заговорить, но не может выдавить ни звука.
— Куда? — наконец удалось ему произнести. — Куда? Куда?
Исаака волокут по темному коридору, освещает его лишь фонарик идущего впереди охранника. Бетонный пол царапает босые израненные ноги, от них по телу расходятся волны боли. Он чувствует, как грудь сжимается, сердце колотится все сильнее.
— Прошу вас, — говорит он. — Мне очень плохо.
— Очень или не очень — неважно, — бросает тот, что идет впереди. Он отпирает одну за другой железные двери, и Исаак оказывается на улице: метет снег, дырявую дерюгу пронизывает холодный ветер. Израненные ноги немеют. Он понимает: его час пробил. Ждет, когда вся жизнь промелькнет перед ним, но ничего похожего — к горлу подкатывают рыдания, и только. Но даже зарыдать он не может.
Его тащат в дальний угол двора, приказывают повернуться лицом к стене, поднять руки вверх. Он, преодолевая усталость, медленно поднимает руки, и вот тут-то его жизнь и предстает перед ним: смутные образы, сливающиеся один с другим, проносятся с такой скоростью, что он не успевает их разглядеть, ощущает лишь горечь утраты.