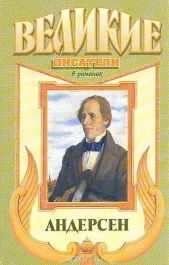Новый Мир ( № 1 2006)
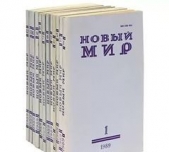
Новый Мир ( № 1 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Примеривал на себя Виталий Сергеевич холод и муку, будто сам шел, не зная куда, спотыкаясь и распластываясь на земле. При таком горе оставалось мужественно держаться. Держаться во что бы то ни стало!
— Слава Богу! — обращал он к потолку покрасневшие глаза. — Боже мой, слава Богу! У меня все на месте: и жена дорогая, и доченька, будущий юрист! Лебедь и воробушек. Воробушек и лебедь.
И в радостном порыве, непроходящем безумии отцовства и положении мужа Виталий Сергеевич в безудержных мыслях своих вальсировал, выводя замысловатые кривые па. Это был просторный зал с осыпающимися с потолка конфетти. Для одного Виталия Сергеевича оркестр исполнял Штрауса.
То кланяясь, то заводя руку за спину и притопывая каблуком, Виталий Сергеевич очерчивал счастливый заградительный круг. На его щеки налетал румянец, лицо прояснялось и казалось лицом подростка. Так приятно ему было крутить мажор, наблюдать и слышать, как усиливается вдали от него ветер, как стонет и свистит высоко и протяжно, отзываясь легким звоном в стеклах. Как от его дуновения раскачиваются качели, сначала медленно и со скрипом, но затем с тем напором и силой, что прежде позволяло достигать высокой амплитуды. Набегая на дом так, словно кто-то торопится навстречу Панину и хочет, раскачавшись, запрыгнуть в окно, замирая в воздухе и после паузы срываясь вниз.
— Небось страшно! — гадал Виталий Сергеевич, не отступая. — Вот так вот сразу одному остаться! Постель сам стелешь и завтрак готовишь сам. Ни “доброго утра” тебе, ни “спокойной ночи”. Все в оцепенении!
Продлевая трогательно-нежное настроение, Виталий Сергеевич на цыпочках крался к комнате дочери и тихонько заглядывал…
Наташенька тихо сидела за письменным столом и читала книгу. То и дело она отрывалась от страниц и что-то отмечала на листке бумаги справа от себя. Страницы поднимались веером, и Виталию Сергеевичу не было видно, сокращения Наташенька пишет или полные предложения. Зато хорошо различались руки дочери. В свете настольной лампы они казались необыкновенно белыми и будто светились. В то время как лицо дочери, задействованное мыслью, выглядело невеселым и темным.
“Доченька моя…” — ласково и поцелуями дыша, повторял Виталий Сергеевич.
Он благодарил себя молодого за верность природе и долгу, за то, что теперь мог гордиться самим переходом к основательным и долговременным обязательствам, не стесняясь этого.
“Моя… — еще тише шептал он, забалтывая в слезах слова, открывая заново прожитые дни. — Помню, помню… Подхватил обеих на руки и несу. А Дашунь испугалась — поставь, поставь…”
Подчас имена жены и дочери сливались для Виталия Сергеевича в одно чудесное вышептывание. Достаточно было подумать о Дашеньке, переходя от кнопки лифта к дверце, без четкой стратегии и смысла, — чем занята и что говорит, — и медленно, освободившаяся или по-прежнему за занятием, проступала фигура Наташеньки в легком розовом платьице с намерением положить ломтик лимона в чай, потому что папа так любит.
— Спасибо, родная, — целовал Виталий Сергеевич доченьку в щеку, радуясь потому только, что она рядом.
“Так все и идет: легко и трудно, — загадывал самому себе Виталий Сергеевич загадки, торопливо поспевая за рабочим часом поутру или поднимаясь в лифте. — Одно чувство, — вздыхал он. — А как палитра”.
— А знаете… — обращался он ни с того ни с сего к пассажиру лифта, отчего тот вздрагивал и настораживался. — Знаете…
Но проходила секунда, и Виталий Сергеевич умолкал, словно одно произношение имен вслух могло нарушить и вспугнуть доброе и легкое.
— Да так, — вздыхал он, виновато улыбаясь. — Нашло вот… Нашло…
Порой Виталий Сергеевич ловил себя на мысли, что ему не обязательно день за днем распознавать голоса жены и дочери, а вполне достаточно было бы ощущать достигающие тела колебания воздуха, теплыми волнами свидетельствующего об его устном и письменном знании такой распрекрасной жизни. Без лишнего напряжения и суеты довольствоваться тенями в свете низкого солнца, отражениями в зеркалах и полированных дверцах, почерком в записочках — куда ушли и когда будут, — поворотом головы или ключа в замке… И вдобавок путаться оттого, что, надеясь застать обеих в пять пополудни, не заставать ни одной. Проходить по комнатам с запахом улицы на плечах, соображая, какую пользу можно извлечь из нечаянной свободы.
Какую пользу…
Придумывать дальше безотлагательное срочное дело, от которого все вокруг замедлит ход, станет меньше и тише, вытянется тонкой линией, надуется шаром, лопнет, зашипит. Лежать и думать, что дни проходят вяло, незаметно, лишенные пустой и необходимой мечтательности. Тосковать от бездействия и бездействием тяготиться, но потом в незнакомой глубине находить занятие и немедленно к нему обращаться.
И не тосковать больше.
А после, с трудом раскрывая словно навсегда слипшиеся веки, торжественно сообщать потолку: “Я сплю! А Панин не спит!”
С закрытыми глазами представлять, как было бы чудесно нагрянуть к товарищу, окликнуть с порога, ворваться, взбежать по лестнице в три прыжка. Без паузы начать делиться впечатлениями от дороги, жары и предстоящего троекратного усиления ветра.
Без лобзаний и особого смущения переходить от вопроса к вопросу, не ожидая ни ответов, ни подробностей. Краем глаза ловить выражение горечи в улыбке Панина, печальный, недоверчивый взгляд, набор знаков и преимуществ, которые выгодно отличат.
— Холодно у тебя здесь. Загробно как-то…
И, не обращая внимания на глухую жестикуляцию, перемещаться от стены к стене, оттеняя в выгодном свете собственные заботы, заслуги, доканывающую беличью круговерть, требования и обязанности, от которых никак не отвязаться.
— Несовершенство природы… — замечать философски. — Орангутанги и макаки…
С другой стороны, не так уж и дурно жить ради захвата объективных условий существования и для упрочения этих захватов прилагать максимум усилий, дабы в душе разливалось одно великолепное спокойствие, предтеча священного летаргического сна. Но потом спохватываться и, словно опомнившись, спрашивать:
— А твои-то как? — И слышать только, как в ушах нарастает и крепнет невозможный гул, не водопада и не бурной речки, а хора подавляемой и сдерживаемой гармонии.
— Знаю, знаю! — с восторгом опережать Панина.
Смотреть на часы, хлопать себя по лбу и сконфуженно сообщать, что осталось незавершенным одно важное дело.
Срываться с места и выбегать вон.
На улице крикнуть такси и велеть сделать радио громче. Напевать мотив и с приятным волнением думать о том, как, в сущности, легко и безопасно без чьей-либо указки и позволения водружать и сбрасывать с плеч хоть сто раз на дню призрачную ношу. В царственном изумлении откидываться на спину, отстраняться, глохнуть, не слышать ни улицы, ни радио, а улавливать только отдаленное шуршание бумаги по скатерти, скрип простых предложений с медленным наклоном шариковой ручки.
Видеть, как Панин, склоняясь к столу все ближе и ближе, выводит послание торопливыми буквами, будто стремящимися убежать от захлестывающего напряжения. Ненадолго он останавливается и замечает, что красивый орнаментальный почерк остался в прошлом. Сидит, уставившись перед собой или уткнувшись лицом в руки, и думает: “Отчего же письмо?” Ведь если в нем все оказывается строго предписанным, от прописных букв и тона обращения “Дорогие…”, то в телефонном разговоре на вопрос такой-то всегда можно вильнуть и ответить не так, как следовало бы в сложившейся ситуации. Обойти знание незнанием и этим ничего не нарушить. С другой стороны, что делать, когда правда оказывается единственным предлогом беспокойства?
Вот Панин набирает номер телефона. Не попадает пальцем в гнезда, промахивается, никак не может собраться и из предполагаемых цифр едва добирает половину. Вконец обессилев, он присаживается у телефона, и проходит не меньше часа, прежде чем он кладет трубку на рычаг.