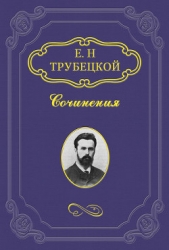Аватара клоуна
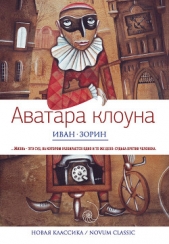
Аватара клоуна читать книгу онлайн
«Зорин – последний энциклопедист, забредший в наше утилитарное время. Если Борхес – постскриптум к мировой литературе, то Зорин – постпостскриптум к ней».
(Александр Шапиро, критик. Израиль)
«Иван Зорин дает в рассказе сплав нескольких реальностей сразу. У него на равных правах с самым ясным и прямым описанием „естественной жизни“ тончайшим, ювелирным приемом вплетена реальность ярая, художнически-страстная, властная, где всё по-русски преизбыточно – сверх меры. Реальность его рассказов всегда выпадает за „раму“ всего обыденного, погруженная в особый „кристаллический“ раствор смелого художественного вымысла. Это „реальность“, доведенная до катарсиса или уже пережившая его».
(Капитолина Кокшенёва, критик. Россия)
…Кажется, что у этой книги много авторов. Под одной обложкой здесь собраны новеллы в классическом стиле и литературные экзерсисы (насыщенные и многослойные тексты, полные образов, текстур, линий и аллюзий), которые, возможно, станут классическими в XXI веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Лиля, Лиля, – позвал он сдавленным голосом.
– Что, дорогой?
– Знаешь, хочу тебя удивить, – разворачиваясь в кресле, начал Лялин. – Я уже давно… – Он закашлялся. – Я уже давно такого не встречал… Прочитай, по-моему, это гениально…
Лялин встал, отвернувшись к шкафу со своими книгами, чтобы жена не увидела судорогу, исказившую его лицо.
– Прямо сейчас?
– Да, – глухо выдавил он, – прямо сейчас…
Смеркалось, тени под фонарями ползли к домам. Лялин покружил по району, и ноги привели его в то же кафе, где он сидел с Грудиным. «Я ставлю для себя самую высокую планку, – вспомнилось ему, – сужу себя по гамбургскому счёту. Иначе зачем?» – «Иначе зачем?» – деревянным голосом повторил вслух Лялин, помешивая кофе. Он подумал, что слишком много отдал искусству, казавшемуся ему теперь пустым занятием, и даже не завёл детей. «Надо бросать», – пробормотал он, раздавив окурок, и сам не понял, к чему это относилось – к курению или литературе. Лялин мелкими глотками тянул кофе и думал, что Лиля ещё молода и вполне может родить, а он может устроиться в редакцию читать чужие книги, что это честнее, чем писать свои. У Лялина было буйное воображение, он уже представлял, как удивится редактор, принимая его на работу – ну, ты же не сомневаешься, вкус-то у меня есть! – скажет он, похлопав его по плечу; как Лиля будет вечерами ждать его возвращения, как он станет играть с ребёнком, оставив на службе всё, что связано с литературой. Это и есть настоящая жизнь, а не ежедневное блуждание в грёзах.
– Извините, мы закрываемся.
Расплатившись, Лялин вышел за дверь, в последний раз бросив взгляд на стол, за которым сидел, где вместе с пачкой сигарет оставил свою прежнюю жизнь. Чтобы выгадать время и дать возможность Лиле дочитать до конца – а в её безупречном вкусе он не сомневался, – Лялин ещё долго бродил по городу и вернулся домой далеко за полночь. Он уже распрощался с проведёнными за столом годами, и на душе у него было необычайно легко. Едва корябнув замок ключом, он услышал шаги – Лиля, заплаканная, встретила его в прихожей.
– Дорогой, я так волновалась! – обвила она его шею, сбив набок галстук. – Ты же у меня всё!
Лялин, неловко потоптавшись, обнял жену:
– Прости… Ты прочитала?
– Роман? Уже давно. Сижу и плачу – хотела даже звонить в полицию.
– И как?
– Тут ты и пришёл.
У Лялина в горле застрял комок.
– Роман, – шёпотом повторил он.
– Ах, роман. Не знаю, дорогой, чем он тебя заворожил. Читал, как всегда, по диагонали? Стиль, безусловно, есть.
Но это всё. Безжизненно как-то, мёртво. Верно, попал тебе под настроение…
Лялин недоверчиво отстранился, пристально заглянул в глаза:
– Хочешь сказать, я пишу лучше?
– Смеёшься?
И тогда Лялин стал хохотать. Он никогда так не смеялся – ни до, ни после, и был не в силах остановиться, даже когда жена взяла его за руку.
– Что, что с тобой? – встревожено повторяла Лиля, впервые видевшая мужа в таком состоянии. – Неужели… – Её лицо отразило внезапно пришедшую мысль. – Неужели ты… – Она ткнула в него пальцем. – Ты!
Теперь они хохотали оба, опустившись на грязный по ловик.
– Гамбургский счёт! – в изнеможении захлёбывался Лялин. – Гамбургский счёт!
– А ты-то, ты-то! – заливалась Лиля.
Из-под двери сквозил холод, на кухне пробили часы.
– Ну, мы же его опубликуем, – немного успокоившись, сказал Лялин.
– Конечно, дорогой! В порядке очереди.
Маятник качнулся, и всё пошло своим чередом. Лялин по-прежнему мастерил романы, писал заказные статьи и дружил с нужными людьми, которых в глубине презирал. Грудина он больше не видел, а когда в памяти иногда всплывала их встреча, вспоминал, что его роман целиком так и не прочитал. Жена по-прежнему готовила ему кофе, и он оставался в счастливом неведении относительно той ночи, когда она по телефону призналась подруге: «Прочитала гениальный роман, но ради мужа пришлось его отклонить».
Петербургский реквием
«Всё, что с нами случается, случается помимо нас, – бубнил Семён Захарович, работая могильным заступом. – И жизнь нам дают не спрашивая, и смерть». Но думал о том, почему оказался на кладбище, заживо гниющим среди мертвецов, могильщиков и забулдыг-сторожей.
Семёну Захаровичу за шестьдесят, и ещё недавно он считал свой возраст нежным, как у младенца: «То сердце, то печень, тронь – сломаются». А теперь моросил дождь, комья сырой земли липли к железу, но простуды он не боялся. У его сверстников толпились в прихожей врачи, карманы оттопыривали лекарства, а речь перемежали слова из медицинского справочника. Но Семён Захарович не мог поддерживать разговоры, которые крутились вокруг болезней, не мог жить согласно принципу: «Лечусь – значит существую!», ему вдруг стало всё безразлично, и он не мог ответить себе, зачем и дальше тянуть лямку.
Так он очутился в Александро-Невской лавре.
Раньше Семён Захарович работал редактором и теперь ухаживал за могилами так же тщательно, как раньше чистил рукописи. Ему отвели просевшую, жмущуюся к забору привратницкую, из-за двускатной крыши похожую на гроб, с окошком таким низким, что мужчину от женщины можно было отличить лишь по обуви. Семёну Захаровичу было всё равно. Он давно носил привычки, как улитка дом, прячась в них, чувствовал себя везде на своём месте.
И всюду оставался чужим.
Когда-то в юности Семён Захарович, мечтая осчастливить мир, запускал в него бумажные кораблики надежд, для прочности подкладывал в его основание обожжённые болью кирпичики своих стихотворений. Но мир оставался глух, до него было не докричаться, а все попытки Семёна Захаровича оставались звонками в пустую квартиру. И всё же мысленно он продолжал писать книгу, в которой ответил бы сразу на все вопросы. Потому что все вопросы для него сводились к одному – отчего мир такой огромный, а он живёт в нём, будто в собачьей конуре. С годами книга пухла, а вопрос по-прежнему сверлил мозг. И теперь он пытался найти ответ в окружавших его эпитафиях, которые слагали заключительные главы его книги. В плывших рассветных сумерках он перелистывал свои замогильные записки, не в силах разобрать, видит их во сне или наяву.
Вечерами Семён Захарович выходил за кладбищенские ворота, кормил с дощатого моста крикливых чаек, рассыпая пригоршнями хлебные крошки, глядел на уток, скользящих по лениво текущей Монастырке, пока не замечал в холодной прозрачной воде желчное старческое лицо, похожее больше на посмертную маску. Тогда он отправлялся в город, который умер ещё сто лет назад, в сгустившемся тумане разглядывал старинные дома с каменными львами, и ему казалось, что за их тускло светящимися окнами живут загадочные гномы из сказочного прошлого. Но он знал, что эти квартиры давно населяют другие, что завтра увидит жильцов на прямых, как палки, улицах, по которым они будут рыскать с такими лицами, будто продолжается ленинградская блокада.
И говорить на языке, которого недостойны.
В прошлом у Семёна Захаровича осталась жена. Он помнил, как в электрическом свете её волосы тонкими тенями секли лицо, как шрамами, как, целуя их, шептал: «Женщины делятся на тех, кто красивее на улице, и тех, кто в постели. Ты из последних». Жена улыбалась, клялась, что посвятит ему жизнь, но очень скоро её слова выцвели, как застиранное бельё.
Так что, выйдя на пенсию, Семён Захарович привычно завтракал в одиночестве, а за ужином говорил с самим собой.
Уходя из дома, Семён Захарович припомнил жене всё.
– Ты оказалась нахрапистая, – поставил он точку в их затянувшемся диалоге. – Нахрапом можно взять – удержать невозможно.
– Нашёл тоже, – покрутили ему у виска, – жизнь прошла, а ты всё балаболишь.
Однако Семён Захарович не прожил пустоцветом, у него вырос наследник, и было кому передать опыт. Когда сын был маленьким, он гладил ему волосы и напутствовал: «Вот повзрослеешь, и случится тебе попасть в трудное положение. Так ты подумай тогда: „А как бы поступил мой отец, что бы он сделал?“ И поступай наоборот». Сын оказался хорошим учеником и, разменяв четвёртый десяток, звонил родителям, только когда ругался с женой. Тогда он вспоминал детство, клял свою теперешнюю жизнь и обещал приехать.