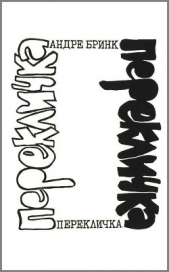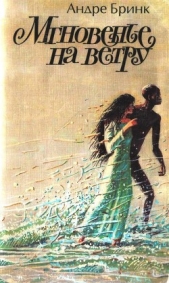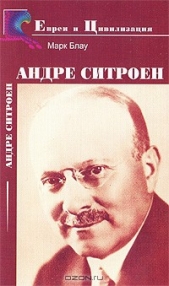Слухи о дожде. Сухой белый сезон
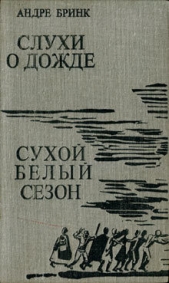
Слухи о дожде. Сухой белый сезон читать книгу онлайн
Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.
Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.
Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Родителей Бернарда уже давно нет на свете. Его мать мирно умерла во сне лет десять назад. А отец, этот могучий старик, хозяин фермы, не побежденный ни засухой, ни холодами, не смог пережить смерти своей хрупкой супруги и через полгода последовал за ней — с разбитым сердцем, как сказал врач.
Наверное, и к лучшему, что они не дожили до этого суда. Едва ли они смогли бы пережить такое. Но их тоже нельзя недооценивать. Бернард часто высказывал мысли и совершал поступки, пугавшие их, но они никогда не упрекали его, не теряли веры в него и любви к нему — они и теперь бы молились за него, но не осуждали. И все же суд был бы для них непосилен.
Бессмысленные рассуждения. Столь же бессмысленные, как и мои размышления о том, мог ли я изменить ход событий.
Правда, был один странный вечер во время суда над «террористами» в тысяча девятьсот семьдесят третьем году (когда, как выяснилось потом, он защищал своих же сообщников и подчиненных). Я не понял тогда, что в нашей беседе прозвучало нечто особенное, а он объяснил мне все лишь гораздо позже, слишком поздно.
Во время своей болезни в детстве — в ту ночь с абажуром, позвякивающим о стену, и словами врача «кризис миновал» — я тоже не подозревал, в какой опасности находился. А когда понял, все было позади. Наверное, так бывает всегда. В таком случае и ночь семьдесят третьего года тоже можно назвать кризисной.
То, что случилось, было предопределено цепочкой совершенно незначительных обстоятельств. Например, все было бы иначе, если бы Бернард жил у нас, как он обычно и делал. Но в это время у нас гостили родители Элизы. Хватило бы места и для него, но он не хотел никого стеснять, и поэтому я поселил его в своей городской квартирке.
Или же — если бы в ту роковую ночь я не пошел на день рождения к тетушке Ринни. Или — если бы Бернард пошел со мной, как и собирался вначале. Или — если бы там не оказалось Беа. Столько всяких «или» и «если».
Это было вскоре после начала суда, и виделись мы не часто. В тот понедельник я до вечера задержался в конторе (у меня шла ревизия), устал и был не в настроении сразу отправляться на вечеринку. Итак, я решил сперва заглянуть к Бернарду и распить с ним по рюмочке. Может быть, мне удастся уговорить его поехать со мной. Он хорошо относился к этой старушке еще с тех пор, как на последнем курсе я снимал комнату в ее доме восемнадцатого столетия на Дорп-стрит. Тетушка Ринни была не только родом, но и корнями из Стелленбоса: пять поколений ее предков жили в том же доме, никто не мог даже представить себе, что она уедет оттуда. Но обе ее дочери обосновались в Йоханнесбурге, и, чтобы быть поближе к внукам, ей пришлось продать старый дом и переехать на север. В небольшой квартирке одного из старинных зданий в Парктауне она всеми силами старалась занять себя тем, что называла жизнью: музыкой, людьми, шутками, стихами. Медленно дряхлея в тоске по горам, по дубам, по шуму воды в каналах и смеху молодежи, она пыталась организовать нечто вроде салона. Пожалуй, не было случая, чтобы, придя к ней, я не застал там кого-то совершенно незнакомого: кого-нибудь из людей, которых она подцепляла в автобусе, в музее, на выставке или в ресторане и приводила к себе, чтобы окружить заботой и вниманием. Скромная и деликатная, она порой бывала чрезвычайно требовательной. Она обожала сводничать и женить друг на друге своих молодых друзей. Бернард был единственным, кто не поддавался, хотя его искушали сильней, чем кого бы то ни было.
Апогеем ее светской жизни было ежегодное торжество в апреле по случаю дня рождения. Все друзья и знакомые собирались в ее небольшой квартирке, чтобы повеселиться, попьянствовать, и побуянить до рассвета, и на протяжении всей этой оргии она неизменно восседала в центре комнаты с тщательно уложенными седыми волосами, с жемчугами в ушах и на жилистой шее, глядя на гостей живыми и яркими, как васильки, глазами и читая им время от времени какие-нибудь стихи.
Именно в такой день я и поехал вечером к себе на квартиру, чтобы повидать Бернарда. Тихая и мирная квартира в современном здании, обставленная по моему вкусу, где по ночам можно было лежать на широкой, двуспальной кровати и слушать шелест платановых листьев за окном. Город чувствовался и здесь — со своим движением, динамикой, трепещущим присутствием на пороге сознания, — но не как угроза или назойливое вторжение, а родной и близкий, будто сама жизнь.
Когда я позвонил, Бернард только что принял душ и вышел ко мне голый, с полотенцем, обмотанным вокруг бедер.
— Я не вовремя? Ты куда-нибудь собираешься?
— Да нет. Заходи.
По пути в спальню он снял полотенце и стал вытираться им. Я, помнится, подумал, что хотя он на пять лет старше меня, но сохранился лучше.
— Как тебе удается поддерживать форму? — спросил я не без зависти.
— Играю в теннис. Раз в неделю хожу в гимнастический зал. Вот и все, — Он бросил полотенце и начал одеваться. — Если не следить за своим механизмом, — добавил он со знакомой мне улыбкой, — можно потерять самоуважение и уважение других, так ведь?
— Я заехал пригласить тебя на вечеринку.
— Хорошо. Куда?
— К тетушке Ринни на день рождения.
— О господи, я и забыл.
— Она знает, что ты в городе, и требует, чтобы я тебя привел.
— Наверное, нашла для меня несравненную невесту.
— Откуда ты знаешь?
— Она каждый год находит девушку, «самой судьбой предназначенную для меня». Бедная старушка, я ее уже столько раз разочаровывал, но она не отчаивается, — Взяв башмаки и носки, он направился к двери. — Давай сперва выпьем. Время у нас еще есть.
— Безусловно, есть. Не стоит появляться там раньше восьми. Все равно гости не разойдутся до утра.
— Сам нальешь или я? — Он стоял возле старинного шкафчика, который я приспособил под бар.
— Наливай. Ты же здесь дома.
— Богатый выбор. — Он открыл бутылку. — Ты просто Гарун-аль-Рашид.
— Пока не совсем.
— Ну, не скромничай. Ты заставляешь своих девиц рассказывать сказки?
— Нет, обычно я сам плету всякие байки.
Он передал мне стакан с виски и сел на стул, все еще босой.
— За твое.
— За твое.
— Я хотел бы, чтобы ты снова начал рассказывать сказки, — неожиданно сказал он. — Я еще помню ту вещь, которую ты показал мне много лет назад.
— Ты же спустил ее в унитаз.
— Ну и что? Все равно у тебя есть талант.
— Но теперь, когда я стал солидным человеком — как это говорится, — я оставил детские забавы.
— Детские забавы вроде веры, надежды, любви?
— Нет, о любви я пока еще не забыл.
— Я не говорю о твоих шлюхах.
— Что это ты сегодня изображаешь из себя такого проповедника? Можно подумать, что не у меня тесть священник, а у тебя.
Не смейся над ним, он хороший человек.
— Грустишь? — спросил я с наигранной легкостью. — О прошлогоднем снеге?
— Нет, не о снеге. Скорее, о засухе. — Внезапно он стал очень серьезен. — Эти дивные, ужасающие засухи, когда поля обнажены до самой кости земной. Как овечий скелет. Пока не достигнешь предела отчаяния и страха и не очутишься в тишине, какой до тех пор не ведал. Я хорошо помню это ясное и чистое чувство. И только тогда, помнится, начинал идти дождь.
— Ты сегодня сентиментально настроен.
— Да, пожалуй.
За окном смеркалось. В комнате становилось темно, очертания мебели и картин на стенах расплывались. Ни один из нас не пошевелился, чтобы зажечь свет. Спустя некоторое время Бернард поднялся, наполнил наши стаканы, потом подошел к проигрывателю и включил его. Пластинка там уже стояла. Разумеется, Моцарт.
Мы вновь вступили в одну из наших безмолвных бесед, когда слова заменяются музыкальными метафорами, ясными и точными звуками рояля, не страшащимися изрекать простейшие из истин.
Минувших лет как не бывало. Я отбросил на время заботы солидного человека. Очищенный музыкой, я испытывал чувство, подобное тому, о котором недавно говорил Бернард, упомянув о засухе. Музыка действовала более мягко и деликатно, но в конечном счете не менее неумолимо. Она возвращала к вере, надежде, любви, к истине о солнце и камне в той стране, где дождь — это не более чем слух или символ бренности. Те каникулы на ферме. Элиза. («Никогда не видел девушек?») Ночи в комнате, во тьме, пропитанной запахом воска после того, как мы гасили свечи, и защищенной от звуков, просачивающихся с улицы: кваканья, стрекота, уханья, пофыркивания или лая пса, жуткого воя и смеха шакалов, голосов из хижин, шума ветряных мельниц и скрипа цепей на ветру.