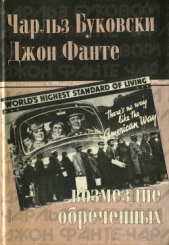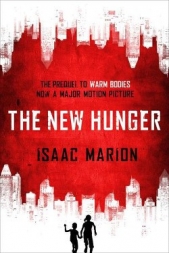Бабл-гам

Бабл-гам читать книгу онлайн
Юная француженка Лолита Пий стала звездой в девятнадцать лет, опубликовав в престижном издательстве «Грассе» свой первый роман «Хелл». Язвительная и провокативная книга о золотой парижской молодежи вызвала острую реакцию критики и привела в восторг читателей. Последовала экранизация и огромный кассовый успех.
Сюжет «Бабл-гама», второго по счету романа Пий, — это лихо закрученная история о пути к славе в мире шоу-бизнеса. Официантка с внешностью топ-модели мечтает о карьере в кино. Судьба сводит ее со скучающим миллиардером, который решает осуществить ее мечту — на свой лад. Он затевает безумную и опасную игру, но события выходят из-под его контроля.
В прессе Лолиту Пий часто называют «литературной крестницей» Фредерика Бегбедера, который со своей стороны не упускает случая публично отметить ее талант.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сегодня Манон так же одинока, как в прошлом, она проклинает судьбу и свое безумие, она снова подавальщица и ненавидит свою жизнь, она алкоголичка и почти проститутка. Похоже, она каждый вечер сидит в баре, куда я захаживаю время от времени, помимо собственной воли, только чтобы увидеть ее. Я вижу жалкую, подурневшую, отчаявшуюся развалину, и отвожу взгляд, словно мы не знакомы. Словно я и ни при чем. Чтобы подбодрить себя, я говорю себе, что сумел довести дело до конца, что должен гордиться, но потухшие глаза Манон, ее неверная походка, ее надтреснутый голос преследуют меня даже в ночных кошмарах. И в одном из ночных кошмаров я нашел мой нон-финал: Манон должна умереть.
Глава 17
Шлюха
МАНОН. Минет не такая уж мерзкая штука. Не такая уж личная. Тела едва соприкасаются. Надо только не смотреть. И я закрываю глаза. Только не слушать. И я изо всех сил думаю об одной песне Нины Симон, которую мы слушали с Дереком. В мыслях я слышу ее, а не хриплое дыхание. Этот тип старый, толстый, уродливый, и выбирала его не я. Его член у меня в правой руке, сжатые пальцы движутся вверх и вниз, давлю не слишком сильно, а то ему будет больно, но достаточно крепко, чтобы он был целиком в моей власти. Учащаю ритм, и он твердеет у меня во рту. Стараюсь не касаться его выпяченного живота. Я изолирую пенис от остального тела, которое мне противно, и это всего лишь пенис, я ничего дурного не делаю. В первый раз я разразилась слезами и бранью. И клиенту понравилось. Теперь я не плачу и не бранюсь, все это вообще лишено для меня всякого смысла. Это всего лишь жесты и сознание хорошо сделанного дела. Сверху вниз, снизу вверх, сильнее, быстрее, потом тише, медленней, переключать скорости, менять давление, губы и руки действуют согласно, я глотаю его член до самой мошонки и не слышу сдавленного крика; я почти танцую в ритме песни, которая звучит у меня в голове, и не вижу его морды, искаженной первыми пульсациями оргазма; под моими закрытыми веками проходит череда воспоминаний и образы будущего счастья, и это почти момент чистой красоты. Но все-таки остается «почти», и запах, от которого мне не уйти, запах моего позора, запах моего облома: вонь нечистых оргазмов, прошлых, настоящих и будущих, он ползет от сидений, от лиц, от стен. Запах моего трупа. Струя брызгает мне в лицо, мне должно это нравиться, я совершаю невозможное и продолжаю улыбаться, а моя кожа горит там, куда попали капли, и я встаю и кланяюсь, а вокруг люди хлопают мне. Вокруг люди хлопают мне: я наконец на подмостках.
Из глубины зала Поль показывает мне знак «Victory». Занавес падает прежде, чем я успеваю ответить, и я медленно плетусь в гримерную. Гашу неоновые лампы вокруг зеркала, умываю лицо. Поль стучится в дверь, спрашивает, не хочу ли я пойти с ним выпить. Я не хочу пойти с ним выпить. Мне не хочется уходить из театра. Мне хочется, чтобы уже настал завтрашний вечер, и чтобы я дрожала от возбуждения за кулисами, и выложилась на сцене, чтобы мне хлопали снова. Да, именно этого я хочу: чтобы мне хлопали снова.
Каждый вечер мной торговали с молотка. Я была молода, красива, еще почти не потрепана, пала не настолько низко, чтобы быть заразной, ровно настолько, чтобы быть согласной. Они были уродливы, стары, чаще всего в маске, они поднимались на сцену, заплатив немалые деньги, они могли отказаться раздеться. Они доставали из допотопных штанов допотопные члены, а я сосала изо всех сил, словно это доставляло мне удовольствие, пытаясь уговаривать себя: «Такова плата за славу», но это была переплата за падение. Они были уродливые, старые, в масках, и гладили меня по голове тыльной стороной руки. У меня болела поясница от постоянных наклонов, болела голова от постоянных усилий не думать, а челюсть отваливалась к двум часам ночи. И я закрывала глаза, чтобы не видеть эту гадость, затыкала уши, чтобы не слышать приторных звуков томной музыки, написанной, чтобы под нее танцевала рождающаяся любовь, и находившей отклик лишь в пустых креслах. Я представляла себе беснующуюся толпу фанатов, готовых продать душу за то, чтобы я помахала им рукой, я видела себя звездой, щедрой, купающейся во всеобщем восхищении, видела, как я спускаюсь с пьедестала, выбираю наугад никому не ведомого анонима и дарю ему четверть часа взаимной страсти. Я видела себя… Я не видела себя здесь. Сквозь играющий во мне джаз я слышала всего лишь звук бьющих друг о друга ладоней, слышала голоса, выкрикивающие мое имя: «Манон, Манон!» — и воображала, что восторгаются не проворством моих губ, не изгибом спины и задницей, а чем-то еще. А потом я уходила из театра и пешком возвращалась домой по улицам, прилегающим к пляс Пигаль. До чего же бывает холодно, и до чего же красив Париж. Мне хотелось его написать, но я всего лишь бродила по его тротуарам. Нина Симон неотступно звучала во мне, и в мокром асфальте пляс Бланш отражалась чужая жизнь и мое бегство. Я бежала по тротуарам, и со мной не было никого, вокруг горели все эти неоновые лампы и мигающие надписи, обещающие мрачное празднество потайных комнат, вывески с дурацкими неологизмами, экзотическими женскими именами и рваными из-за перегоревших лампочек словами, на Пигаль слишком много света для моего изможденного лица, слишком много пресыщенных, случайных пар, тачек с зажженными фарами, дозволенного распада, тошнотворного одиночества. Тротуары проплывали мимо, микшированные с джазом, словно на кабельном TV, в этой музыке была роковая сладость попустительства, сладость моей судьбы, с которой я больше не хотела бороться, тротуары двоились в моих помутневших глазах, на самом деле я плакала, как последняя кляча, плакала просто так, без всякого повода, траура, драмы, просто из-за своей посредственности, а тротуары все не кончались. Я шагала без цели, вернуться домой не было целью, я шагала, и мне некуда было идти, мне было все равно, принесут ли меня ноги туда, где меня ждет постель и кров, за который я плачу, на мой чердак под крышей, или подогнутся и я останусь подыхать на тротуаре между театром и улицей Амстердам, там, где силы оставят меня. Иногда я заходила в первое попавшееся бистро с желтоватым светом, каким залиты все круглосуточные забегаловки, и выпивала виски в баре, чтобы согреться, и, облокотившись на стойку, почти без сил, посматривала одним глазом на экран, где в сотый раз шел старый фильм Мельвиля, на меня жалостливо глядел полусонный бармен, повидавший и не такое, бормотали старомодные комплименты пьяницы-эрудиты, а я рассеянно слушала, как наркоманка с крашенными в красный цвет волосами рассказывает в потолок, как в пятнадцать лет влюбилась в дилера, как зазывала его каждый день под предлогом покупки грамма или двух, и он в конце концов оказался в тюряге, а она в конце концов села на иглу, и я, смирившись, решалась вызвать такси.
В то время всем казалось, что мы знакомы, и я пыталась убедить себя, что, наверно, я важная птица, но была просто-напросто заурядной. Я была заурядной. Я приходила ишачить в ресторан, изнуренная после ночи траха за деньги, я опаздывала, била посуду, путала заказы, и у меня даже ценой нечеловеческих усилий не получалось улыбаться клиентам. Скот орал на меня, я не отвечала. Сисси меня почти не защищала и с отвращением мерила взглядом с ног до головы, безусловно, заслуженно — я достигла такой точки падения, что превзошла даже ее саму. Значит, я последняя из последних, ну и что? Сисси настучала на меня Скоту, и Скот меня уволил, потому что я наносила ущерб имиджу заведения. Мне хотелось ответить, что я всего лишь пришла в соответствие с блядским характером этого самого заведения и определенно могла бы служить его эмблемой, но предпочла промолчать, собрала вещи, ни с кем не попрощалась и не хлопнула дверью.
Когда я вышла на улицу, там ни единой собаки не было, и, подняв глаза к белесому, апокалиптическому небу, я увидела лишь закрытые ставни. Оператор с камерой снимал меня, пятясь по всей авеню Монтень, а я шла быстро, демонстрируя лишь свой далеко не совершенный профиль, потому что оператора, конечно, не существовало. На улице ветер сметал пожухлые листья, слышался тихий гул конца света, и опять я была одна, мне было холодно, и если бы все эти здания из светлого камня вдруг просто-напросто рухнули, словно капитулировав, я бы ничуть не удивилась. А потом мимо пробежал какой-то тип и толкнул меня, я упала, а когда поднялась, из ниоткуда появился автобус и остановился передо мной. Я вошла, в автобусе не топили, но там была какая-то жизнь, и я приободрилась. Села напротив какой-то старушки и рабочего, и оба, старуха и рабочий, уставились на меня, а потом оба враз встали и пересели, постепенно все пассажиры начали ерзать, и сквозь рев мотора до меня донесся тревожный шепот, я улавливала лишь обрывки, какие-то ругательства и протесты, на меня с презрением показывали пальцем, в конце концов на весь автобус только я осталась сидеть, а передо мной стояла враждебная толпа, и когда старуха запустила мне чем-то в голову, я вышла. Я оказалась на тротуаре улицы Амстердам, в двухстах метрах от дома, и стала подниматься вверх по улице, в горле стоял комок, а в глазах слезы, конечно же из-за ветра, и какая-то шайка подонков побежала за мной, а один попытался обнять меня за талию и сунул руку между ног, я оттолкнула его, они меня окружили и обзывали шлюхой, а потом плюнули мне в лицо, а потом четверо из них меня повалили, я наглоталась пыли, из моей сумки все просыпалось в водосток, и я, стоя на коленях, едва успела схватить ключи и деньги, но тут кто-то толкнул меня снова и наступил на руку, человек десять обступили меня и орали ругательства, которых я не понимала, швыряли в меня какой-то дрянью и объедками, и тогда я бросилась бежать и мчалась изо всех сил по улице Амстердам, а каждый встречный толкал меня или оскорблял, преследующая меня толпа разрасталась с каждой секундой, мне стало страшно, я не смотрела, куда бегу, и чуть не попала под машину, с меня сорвали пальто и схватили за волосы, мне уже было не только страшно, но и больно, я кое-как добежала до дома, вслепую набрала код подъезда, захлопнула дверь изо всех сил, прислонилась к ней изнутри, чтобы отдышаться, и слышала, как по ту сторону топает и ревет толпа, я пошла вверх по лестнице, спотыкаясь на каждой ступеньке, и только на пятом этаже заметила граффити — все стены были изрисованы непристойностями и большими черными буквами написано слово «ШЛЮХА», со стрелками, указывающими на мою квартиру, дверь была открыта, квартира разорена, я подумала, что меня обокрали, но все оказалось на месте, и телевизор, у которого разбили экран, и мои разодранные вещи на плечиках, валявшиеся на полу, залитом проливным дождем — на улице я его не замечала, — от воды потрескивали выдранные с мясом провода, дверцы шкафов были выломаны, а серые стены сплошь покрыты бранью и всякой похабщиной, снова была надпись «ШЛЮХА», и «РВАНАЯ ПОДСТИЛКА», и «ЭТО ТЫ ВИНОВАТА», а потом я услышала эту музыку, она шла ниоткуда и нарастала с каждым моим шагом, стрелки указывали на газету, прилепленную скотчем к стене напротив, я подошла ближе, а адажио разрасталось так, что нестерпимо болели виски, и на вырванной первой полосе я увидела фотографию отца, адажио взорвалось в тот самый момент, когда я догадалась, какой будет подпись, и снова прочла «ЭТО ТЫ ВИНОВАТА», и заметила пушку на самой середине стола, через секунду я уже стояла с револьвером в руке, вложила ствол в рот, курок был тугой, но подавался под пальцем, я повернулась к небу и между окнами увидела табличку «КОНЕЦ».