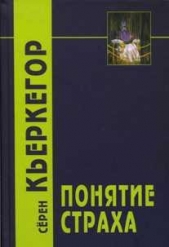Страх

Страх читать книгу онлайн
Главная особенность Постнова в том, что он в отношении своих диковато-уютных фантазий безупречно стерилен: он, словно пузырек воздуха, помещенный в общую воду и оттуда, изнутри этого пузырька, рассказывающий о жизни, как она ему представляется.
Андрей Левкин
Олег Постнов — один из самых удивительных авторов, пишущих сегодня по-русски…
Макс Фрай
Среди самых шумных романов 2001 года, скорее всего, окажется и «Страх» Олега Постнова.
Вячеслав Курицын
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXIV
Я всегда полагал, что служебные духи нашей судьбы (вернемся покамест к теме) все между собой близки и даже внешне похожи. Недаром Олби в своей «Лолите» приписал все их роли одному актеру, заставив Гумберта Гумберта под конец запутаться в них. Однако ж мой Джей вовсе не был похож на симпатичнейшего Степана Богданыча, у которого к тому же — недопустимая для духа роскошь — была своя собственная, очень любопытная судьба. Его отец возглавлял одно из тех призрачных правительств, что возникали время от времени на территории белых войск до конца Гражданской войны, и потом, уже в эмиграции, после рождения Степана Богданыча, долго еще участвовал в каких-то сложных, ветвящихся и даже скандальных интригах вокруг золотого фонда, этим правительством эвакуированного, но затем потерянного. В итоге будущий американский атташе оказался наследником одной лишь пачки пожелтелых документов, нескольких медалей и печати с орлом, вероятно, дорогой в антикварном смысле. Свой долгий путь вверх он начал чернорабочим — в лучших традициях моралите всех веков, — однако до этого успел покинуть Штаты, окончить в Харбине французский коллеж, поредактировать местную русскую газету, побывать на концерте Вертинского (впрочем, он был совсем молод, а Вертинский совсем пьян, так что воспоминание вышло тусклым) и, наконец, прожив два года в палаточном лагере для перемещенных лиц где-то под южным солнцем, добраться вновь шатким пароходом до своего отечества, где его ждали, образно говоря, заступ и карьер: прекрасный символ реализации надежд в стране равных прав и смелого взгляда в будущее.
Первое Рождество (как и Ханука, которую праздновал Джей) прошли для меня незаметно ввиду новости всех впечатлений и устройства первых, насущных дел. Последовавший за ним год расставил все по своим местам. Благодаря Джею я уже мог позволить себе навестить Вашингтон, где обитал Степан Богданыч, и провести у него в гостях пару субботних вечеров. Дом его, большой и уютный, был обставлен массой экстравагантных диковин вроде японского медного блюда-стола на раздвижных ножках, индийского, черного дерева табурета с привешенными по краям колокольчиками (сам хозяин не знал их назначения, но, к немалому моему веселью, которое я, впрочем, скрыл — предположил, что цель их — распугивание духов) и, наконец, целой коллекции дорожных сундуков, расставленных по всем комнатам, из которых довольно пестренький и сравнительно небольшой патриарх имел даже дату на нижней доске — 1793. Все они были в отменном состоянии — хоть сейчас в путь, — а Степану Богданычу достались в наследство от тестя, страдавшего странным хобби: будучи вечным домоседом, он почему-то любил их не то чтобы собирать, а именно реставрировать, порой выказывая в этом деле чудеса находчивости и сноровки. Рядом с этим богатством русские трофеи выглядели вполне правдоподобно — вроде того как в американских «артистических» лавках («Art Store») витрины с подделками а la Египет, Вавилон, Эллада и т. п. неизменно соседствуют с выставкой Палеха (от шкатулок до чашек), так что русский посетитель может вдруг почувствовать себя ожившей мумией, гостем из иных эпох или — на выбор — утешиться классификацией культур в духе Тойнби или Ясперса… Именно в такой лавке я, кстати сказать, наконец-то приобрел пачку карт таро с шулерскими рисунками какого-то Скопинни (вероятно, потомка тенора-кастрата), каковые он в смехотворно напыщенном предисловии, приложенном вместе с инструкцией к колоде, выдавал за художественный аналог символической тайнописи былых времен. Тайнопись, к счастью, удобно расшифровывалась в той же инструкции, так что я довольно скоро овладел навыком прочтения как малых, так и больших арканов, и с интересом узнал (кажется, от Джея, который, вопреки своему прагматизму, в гадания верил), что еще пару лет назад таро были чуть не повальной модой-чумой в соседнем высокоученом Принстоне.
Это же подтвердил мне как-то при случае и Степан Богданыч, сам, однако, заметив, что карты вообще ему претят, как и другие способы заигрывания с роком. Зачем тасовать судьбу? Эта, по видимости случайно оброненная им фраза, однако ж, сильно заинтересовала меня, а так как тогда как раз был очередной субботний вечер в его вашингтонской гостиной и мы уютно расположились в креслах возле камина (правда, не горевшего, а на особый лад декорированного сосновыми ветвями, корой и даже, кажется, целым бревном, так что все вместе напоминало Шишкина, от которого сбежали медведи, Киев, музей, тот день, впрочем, стоп, стоп), то мне представилось очень кстати расспросить его о давно меня смущавших вещах, по крайней мере, услышать мнение человека, умевшего, как казалось, ладить с косностями фортуны. Я начал с Орлика. Он вскоре понял, к чему я клоню.
— Вот, видите ли, мой милый… — он назвал меня по имени-отчеству, как, я заметил, прилежно поступали в таких случаях и другие старые русские эмигранты, как бы удерживая при себе что-то такое, важное, уже последнее, но все равно нужное им. — Видите ли… Я отчасти прошел через искушения, подобно вам. Нет-нет, женщины тут ни при чем, дело касалось, как я уже, кажется, вам говорил, денег. Да, простите, вы христианин? Ага, ну что ж, все же обряд есть обряд, а ваше равнодушие, может быть, с годами исчезнет. Так вот, я только хочу сказать, что женщины ли, золото — на весах князя мира сего это, в общем, одно и то же. И вот мне представлялось, и не раз, к тому же в разные годы и при различных обстоятельствах, иногда очень… как бы выразиться… соблазнительных, что ли… что, в конце концов, это, может быть, мой долг — сделать то, чего не сделал отец. И кроме того, было время, когда я до странности был похож на него — если угодно, я покажу карточки. Теперь это уже выглядит, правда, смешным, я понимаю… Да, так и что ж бы вы думали? Меня спасли именно его дневники. Они всегда хранились у меня, но, как водится, не доходили руки, а тут вдруг одна история с сердцем — я тогда бросил курить… Нет, вы-то курите, курите, я не к тому. Просто я принялся читать его записки. Там было много всего. Но главное, я понял тогда одно, это-то и было важным: и та жизнь, и то время уже давно прошли, понимаете? Исчезли. А у меня теперь своя жизнь, и совсем другое время, и ничего такого я никому не должен — ни себе, ни другим. Для меня это было большим облегчением. Видите ли, судьба — вы любите это слово, я заметил, — судьба всегда понимается нами как нечто отдельное, сепаратное, обособленное, свободное, так сказать, от прочих обстоятельств, чуждых нам. Она нас как бы ведет через мир, который нам, благодаря ей, кажется безразличным. Ну, вот в этом-то, если хотите, и есть наша ошибка. Ведь такая судьба складывается порой (а может быть, и всегда) задолго до рождения человека — не важно, кто он такой. Потомки вдруг находят у себя черты предков, повторяют их характеры, норовят попасть в уже бывшие до них сплетения чужих нитей, незримо раскинутых у них под ногами, учат чужие роли… И в это, действительно, можно играть, этим можно жить. Монархия держится этим. Но вот именно потому, что мой отец отнюдь не был монархистом, а уж я и подавно, я против таких аристократических игр. Вот, вы видите, — Степан Богданыч вдруг рассмеялся, — как нас с вами такой разговор далеко завел… А желаете, я налью вам шотландский виски? Я знаю, вы не пьете американский коктейль.
Я отвечал, что виски в мужском роде говорили как раз в двадцатые годы, как, например, у Вертинского, он кивнул, разговор (уже известный читателю) перешел на Харбин, а вскоре по возвращении домой и опять-таки под Рождество я слег с температурой и с больным горлом. Люк тогда еще не был близко знаком мне и не мог меня навестить. Наконец, однако, у меня кончились продукты, и я позвонил Джею. Он примчался в один миг, припарковав свой новенький лощеный «лексус» в трех ярдах от моей двери — по другую сторону от гидранта. Он вошел улыбаясь, с двумя огромными свертками в руках, кивнул мне с порога, и, помнится, я подумал тогда, что как же он прекрасно выглядит: розовый, бодрый и даже изрядно пополневший.