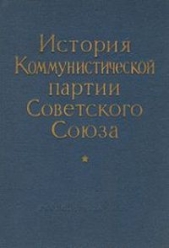Московский процесс (Часть 1)

Московский процесс (Часть 1) читать книгу онлайн
Автор в 1972 г. был осужден на семь лет лишения свободы и приговорен к пяти годам ссылки, но в 1976 г. был обменен на Первого секретаря чилийской компартии Луиса Карволана. Теперь проживает в Англии.
В Париже в издательстве «Фобер Лаффон» вышла на французском языке книга В. Буковского «Московский процесс». Впервые в России отрывки из книги были опубликованы в газете «Русская мысль».
«Московский процесс» — главный результат участия В. Буковского в суде по делу КПСС, куда известный правозащитник был приглашен в качестве эксперта. Автор пытается превратить формальный и малоубедительный результат процесса в Конституционном суде РФ в окончательный приговор рухнувшей коммунистической партии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
5. Закон и целесообразность
— Уважаемые судьи! Сегодня у меня необычный день: впервые за всю свою жизнь в этом городе я выступаю в суде не в качестве подсудимого, а в качестве свидетеля…
Комичность положения усугублялась тем, что и первый раз, выступая в качестве подсудимого в 1967 году, я говорил ровно о том же — о беззакониях, о неконституционности как самой КПСС, так и творимых ею политических репрессий. Настолько то же самое, что теперь, ровно 25 лет спустя, в Конституционном суде России я мог бы просто повторить свою речь слово в слово, и никто бы этого не заметил. Невольно вспомнилось, как я готовился к этому первому в своей жизни «последнему слову» на суде (до того меня дважды признавали невменяемым и судили заочно), как угрозой голодовки добился кодексов от начальства Лефортовской тюрьмы и даже конституцию СССР заставил их купить, во всем следственном изоляторе КГБ не было ни единого экземпляра. Потом — казенная скука суда и напряженное ожидание конца, когда мне было положено «последнее слово», единственная форма неподцензурного слова тогда в стране. (Впрочем, кто ж их знал: возьмут и прервут, не дадут досказать. Такое тоже бывало.) И, наконец — кульминация всей драмы, когда, размахивая кагебешной конституцией, я ухитрился проговорить почти полтора часа, ежесекундно ожидая окрика судьи. Так что по вопросу о «неконституционности КПСС» я действительно был экспертом. Но если тогда это считалось «клеветой на общественный и государственный строй СССР», то теперь стало высшей государственной мудростью, поддержанной авторитетом самого президента России. Что мне было делать — радоваться или печалиться? Гордиться тем, что обогнал своих соотечественников на четверть века, или недоумевать, почему столь простая истина не пришла им в голову за два с половиной десятка лет до этого?
Подчеркнуто правозащитный характер нашего движения всегда вызывал массу недоумения и даже нареканий. Не в том было дело, что факты нарушения коммунистической властью своих же собственных законов были кому-то неизвестны, а идея требовать их соблюдения — слишком сложна. Напротив, вряд ли мог найтись в те годы такой человек, который бы всего этого не знал, не видел. Но — зачем? Какой в этом прок?
— Вы что, хотите усовершенствовать советскую власть? — язвили советские люди, обычно из числа тех, кто считал, что нас все равно «слишком мало», чтобы к нам присоединяться.
— Скажите, а когда же ваше движение, наконец, откажется от ссылок на советские законы и перейдет к открытым действиям? — вторили им на Западе те, кто никогда не жил под пятой режима.
Не было никаких способов объяснить определенного типа людям, что правозащитный характер движения — не мимикрия, не тактическая уловка, а так же, как отказ от насилия и подполья, принципиальная наша позиция. И опять не в сложности этой позиции была проблема. Какая уж тут сложность, коли нам всем ежедневно мозолил глаза пример прошлой русской революции и ее результатов?
Разве кто-то не понимал уже в шестидесятые, что насилие не ведет к правовому государству, а подполье — к свободному обществу? Да и с более практической точки зрения — неужто не видно, что если не находится в стране достаточно людей, способных просто требовать положенного им по закону, то откуда же возьмется огромное множество храбрецов, готовых перестрелять и КГБ, и партаппарат, и добрую толику советской армии? А коли наберется в один прекрасный день достаточно требующих, то и стрелять не придется.
Словом, все это были отговорки, самооправдания. Не мог советский человек заставить себя чего-то требовать у ядерной сверхдержавы. Украсть мог, потребовать — немели губы. Даже просто отказаться с властью сотрудничать — и то не всякий решался. И должен был кто-то делать это у них на глазах, вполне открыто, даже демонстративно, чтобы развеять мистический, иррациональный ужас перед советской властью, ореол ее всесилия. А в этом смысле ничто не могло быть более разрушительным, чем демонстрация ее неэффективности, с одной стороны, и незаконности — с другой.
Да, наконец — а что же еще было делать? Разбрасывать листовки или создавать подпольные «партии» из нескольких друзей могли разве что школьники, но даже и они понимали, что это ни к чему не ведет. Нужны были формы легальной оппозиции, которые позволяли бы объединять и растить независимые общественные силы в стране. А легальные, значит, признающие закон, оперирующие в его рамках.
Между тем, у режима были свои проблемы с законом, которые он никак не мог разрешить со времен революции да так никогда и не разрешил. Прежде всего, потому, что идеология вообще, а марксистско-ленинская в особенности, несовместима с понятием «закон». Идеология — это легенда, миф и поэтому неизбежно противоречива, в то время как весь смысл закона — в его внутренней непротиворечивости. Тем более противоречивой была коммунистическая практика, составляя компромисс между идеологией и реальностью. И что «положено», а что — нет на сегодняшний день, знали только на самом верху. Даже секретные инструкции надо было знать, как истолковывать.
Далее. Задача идеологии — объяснить все на свете при помощи туманных, не поддающихся точному определению понятий; задача закона — определить все максимально точно, не оставляя по возможности никаких лазеек. И как это примирить? Как, например, кодифицировать «диалектический материализм»? Получится нечто наподобие попытки средневековых схоластов точно высчитать, сколько ангелов может поместиться на кончике иголки.
Но самая главная причина несовместимости закона и идеологии в тоталитарном государстве состоит в том, что здесь, по определению, должна главенствовать идеология, а не закон, и коль скоро она не может править через закон, то оказывается над законом, правит как бы из-за его спины. Точно так же, как партия — носитель идеологии — правит из-за спины остальных государственных структур, оказываясь надгосударственным образованием. Учитывая же глобальные цели этой идеологии (а с нею — и партии), закон просто превращался в фикцию, в отрасль пропаганды, рассчитанную на создание привлекательного образа «самого демократического в мире» социалистического государства. Особенно это было видно на примере сталинской конституции, написанной исключительно в пропагандистских целях и оттого исключительно удобной для нас.
Словом, практически закон существовал лишь на бумаге, страна же управлялась бесконечными инструкциями или решениями, ведомственными, государственными, партийными, очень часто противоречившими друг другу и большей частью секретными. Привести все это в единое непротиворечивое состояние было не под силу даже самой партии. Процветало «телефонное право»: звонок партийного босса был новейшим законодательным актом.
Справедливости ради следует сказать, что идеология была точно так же несовместима и с другими сферами жизни, например с экономикой или наукой, и ровно по тем же причинам. Закон, право оказались изначально нашим оружием просто потому, что этим оружием пользовались против нас власти. И мы, надо сказать, отточили его до совершенства, до того состояния, когда любой суд над кем-либо из нас оборачивался поражением властей. Настолько, что, в отличие от сталинских показательных процессов, наши суды проводились максимально секретно, скрывались от публики, насколько это было физически возможно, а если и освещались в печати, то лишь в ответ на «клевету буржуазной пропаганды».
Конечно, достигнуть такого положения было не просто: требовалась большая выдержка, точность поведения, позволявшие не просто сесть, но сесть «на своих условиях» — с максимальным ущербом для власти, т. е. при максимальном нарушении закона с их стороны. Например, в 1967 году я не просто организовал демонстрацию и сел на три года — нет, я доказывал «теорему» о неконституционности статьи 1903 Уголовного кодекса. Именно так была рассчитана и сама демонстрация, и наши будущие аргументы на следствии, на суде, чтобы власти могли осудить нас только вопреки закону, отбросив всякую видимость легальности. В данном случае — вопреки статье конституции, гарантировавшей свободу демонстраций.