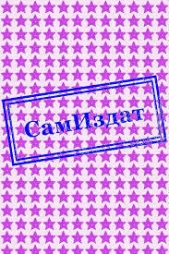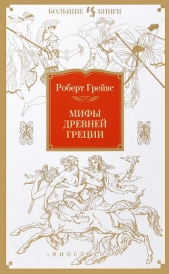Возвращение в Союз
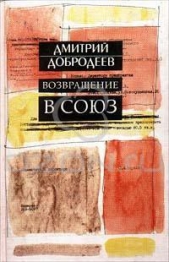
Возвращение в Союз читать книгу онлайн
В книгу финалиста Букеровской премии — 1996 вошли повести "Возвращение в Союз", "Путешествие в Тунис" и минималистская проза. Произведения Добродеева отличаются непредсказуемыми сюжетными ходами, динамизмом и фантасмогоричностью действия, иронией и своеобразной авторской историософией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Где мы? — спросил я человечьим голосом. — Ты что, свихнулся, пес? — был мне ответ. — Мы в Беловежской Пуще. — А день какой? — солдатик с гордостью взглянул на командирские часы. — Сегодня, кря, 22 декабря. — А год? — Год нынче 91-й.
Магическая сила! Предчувствие, что занесло в еще одну парашу, сковало мое дыханье, я поперхнулся, громко тявкнул. Зубр приподнялся и жареным глазком мигнул мне: «Ну что, животное, и ты туда же?» — А ну! — скомандовал сержант. — Ровнее шаг! — И вот пришли. Перед нами стояла охотничья избушка. Большая, на курьих ножках. Вокруг — густой забор.
Поднялись с носилками на крепкое крылечко. Сержант сказал: — Кто тут сболтнет, что он увидел, — тот будет жариться на медленном огне, как этот зубр! — и он загоготал.
Вошли. В предбаннике с нас сняли маскхалаты, солдатскую одежку, оставив синие, до самых до колен трусы. Лишь я остался в лохматой волчьей шкуре. — Ну, пес поганый, — сказал сержант, — останься, так и быть. Смотри, не напугай начальство! — В знак благодарности я облизал его обветренный кулак.
На знак «давай!» они внесли носилки с тушей зубра в просторную светлицу, где полыхал камин. Перед камином — спиной ко мне — лежали в простынях три дяди, глодали рачьи шейки и запивали пивом. Пред ними — батарея зубровиц и сливовиц, шампанского, горилки, водки и даже джина. Они лежали, чавкали, хрустели шейками несчастных раков и пили пенистое пиво…
Солдаты во главе с сержантом Пупкой приступили к разделке туши зубра: умело отчленили ногу с ляжкой, потом вспороли живот, достали оттуда печень и желудок; пилой надрезали могучую грудную клетку и вытащили сердце… оно дымилось, роняло шипящий сок…
Труднее всего отделялась голова… Они достали двуручную пилу и долго пилили… Измучившись вконец, отрезали и положили голову на блюде… Лобастая, угрюмая смотрела голова на возлежащих с немым укором.
Сержант отдал приказ, солдаты удалились, а я залег за кучей охотничьих трофеев, откуда мог наблюдать, что делается в этом помещеньи.
Отрезав по куску от зубра, они разлили и стали уплетать. Один из них поднялся со стаканом зубровки, обмотан простыней, приземист, чернобров. Узнал в нем Кравчука.
— Я предлагаю, — сказал Кравчук, — запить беловежского зубра зубровкой! — он засмеялся и добавил: — А также похоронить Советский наш Союз и учредить ну как это… сообщество… Нам нужен цивилизованный развод.
— Да, — почесал в затылке Ельцин, — а люди что скажут?
— Что люди? Что люди-то? — настаивал Кравчук. — Поделим Алмазный фонд, посольства за границей, и будем жить — как люди…
— Вот-вот, — поддакнул лежащий в стороне Шушкевич, — ведь это означает — демократические перемены.
— Предатели! — я сжался, чтоб не завыть. — Так значит, они готовят раздел империи!
— Ну, если Украина так хочет — Россия согласна, — запухший Ельцин чокнулся с товарищами, продолжили беседу. Сидели бочкозадые, взопревшие…
— Решим демократически, — промолвил Ельцин, — объявим завтра в печати, что СССР распущен, а мы, знай, представители восточного славянства — создали СНГ — союз достойно-независимых.
— Уж лучше — содружество! — привстал Шушкевич.
— Ну черт с ним, нехай содружество, — они разлили горилки и запрокинули в хайло.
Я глухо зарычал, шерсть встала дыбом. С громоподобным лаем прыгнул из-под шкур и бросился на беловеж-путчистов. Вцепился крепкими клыками в откормленную ляжку Кравчука. Удар поленом по голове сразил меня. — Пущай его оттащат… посмотрим, что с этой падлой делать, — сержант Величкин отдавал рабочие распоряженья.
Меня отволокли на задний двор. Там, где разделывали туши убитых зверей, повесили за лапы — на распялке. Допрос повел майор Пичужкин — начальник охраны Ельцина. Он наперво велел стегать лазутчика, и крепкие солдатские ремни впились в лохматый мой загривок. Через какие-то минуты висел безжизненным обрубком, мыча, пуская пузыри кровавые.
— Ну так, — майор Пичужкин закурил, — теперь докладывай. Ведь это ты убил солдата Хасбулаева?
— Да, я.
— Как, почему и по какому наущенью ты прибыл сюда?
— Я… я пришел из неоткуда. Меня давно мотает по всяким задворкам мира… я так хочу, но не могу — из лабиринта дел российских…
Еще один удар заставил волка подтянуться до потолка:
— Докладывай, покуда не стянули всю шкуру!
— Я прибыл из ставки Гитлера под Винницей.
— Чего? — в его лице — недоуменье. — Ты что тут заливаешь, гнида!
Раздался мощнейший щелчок, и тело подскочило от этого удара.
— Что, хочешь ремнем по печени? А ну, докладывай!
— Ну ладно… раз вы того желаете… я — верный ленинец… пришел, чтоб убедиться, насколько нынешние коммунисты верны заветам Ильича… как берегут Страну Советов.
— Чо-чо? — в его глазах я уловил смущенье, а может, чутку понимания. Решил пойти — ва-банк.
— Я убедился, что все распродано, партийно-феодальная номенклатура торжествует, и, самое ужасное, идет раздел СССР. Здесь, господин майор, на ваших, знай, глазах свершается ужасное — раздел империи Петра.
— Чо-чо? — однако закурил, прошелся вокруг меня. Потом нагнулся и прошептал: «Ну ладно, животина ты вроде ничего, и у тебя душа болит. Однако освежевать тебя я должен. Свидетелей не оставляют. Ну там освежевали, подумаешь — видать, судьба. Ведь все мы — фаталисты»… — И, взяв острейший финский нож, провел от шеи до пупка. Седая волчья шкура разошлась легко. И взгляду майора открылось: блистающее белизной, болезненное человечье тело.
Майор работал обеими руками. Стянув всю волчью шкуру, он бросил ее в сторону и прошептал: «Да ты артист!»
Да, я предстал пред ним как падший Аполлон: поджарый, с воспаленным взором, взопревшая мошонка болталась между ног. Утерли мне морду полотенцем, толкнули прикладом в спину. Майор сказал, зловеще смеясь, чтобы слышали другие: — Иди вперед, вражина! — и мы пошли.
Шатаясь, шел впереди, за мной — майор Пичужкин, наставив пистолет «Макарова» в затылок, поодаль — солдаты из охраны. Угрюмая и сытая луна висела над Беловежской Пущей, над местом страшного предательства. Меня поставили у стенки и навели стволы.
В последний момент решил бежать. Рывком скакнул: нацеленные пули застряли в стене. Петляя, рванул туда, где, точно знал я, был выход из подземелья. Петляя зайцем, увиливая от жужжащих пчел любви, я добежал до входа, боднул ополоумевшего часового и устремился вниз.
Внизу они все так же, не замечая меня, тренировались в самбо да пили чай, похрустывая сахаром вприкуску… испарина на юных и глупых лбах…
По коридору, столь знакомому, я устремился прочь — подальше от Беловежской Пущи, подальше от ставки Гитлера. Ну погодите, предатели!
За километром километр продолжался бег. Роняя кровь и пот, бежал по направлению к Москве — столице СССР. Во что бы то ни стало!
Подземный коридор сужался и снижался, и я уже касался плечами замшелых стен, когда застыл перед железной дверцей. На ней написано: Гробница В. И. Ленина. Вход посторонним воспрещен. Билеты в Мавзолей распроданы.
Я стал ломиться, отчаянно и безнадежно.
НАШЕ ДЕЛО ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
Я слышал, как сзади нарастал топот сапогов: выходит, крышка! Прижавшись лбом к двери, я в энный раз простился с жизнью. Прощай, товарищ незабвенный…
Внезапно дверь отворилась, из темноты шепнули: давай, браток, и я прошел в залитую зеленым светом галерею. Дверь за мною закрылась — на три могучих поворота, со скрежетом.
Ступая по ковровой дорожке, я шел по галерее вниз. Вокруг — гудящий ровный звук, прохлада вечности и голубое освещенье. По стенам — вымпелы, знамена и редкие видеокамеры — уставились на неожиданного посетителя.
Там — вдалеке — свет ярче, он разгорается и переходит в красный. Как будто ярость трудового человечества вскипает ровным пламенем. Играет музыка — органная. А в центре зала — на помосте — в стеклянном саркофаге — лежит, сложивши сморщенные ручки на груди, — он, самый человечный Человек.
Ильич лежал с загадочной улыбкой, как будто все происходившее вокруг — давно знакомая возня, по сути не меняющая неумолимого движения истории.