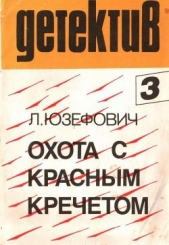Знак Вирго

Знак Вирго читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нездешний? — спросил парень. Глаз у него был, видно, приметливый.
— Нет, — ответил Юра.
— Издалека?
— Из Москвы.
Парень не кивнул уважительно головой, как делали многие: мол, столица, сердце родины, Сталин, метро, Большой театр, мавзолей — а просто сказал, не спросил:
— Ну, и чего приехал…
В голосе было безразличие, даже как будто злость, и Юре не захотелось отвечать, но он посмотрел на правую ногу парня и сказал, по возможности, небрежно:
— Так, работаю на рыбстанции.
— А школа? Ты ж еще…
Проклятая моложавость! Что ж его чуть не за семиклассника принимают?
— Мне уже семнадцать, — немного приврал Юра.
— Ну да! И мне тоже, — сказал парень с таким удивлением, словно годился Юре в отцы. — Отломить хлеба?
Потому что Юра уже проглотил последний кусок своего пряника.
— Нет, спасибо. Я сыт.
А он не такой злой, решил Юра. Просто чего хорошего, если ноги нет? И с девчонками как знакомиться?.. Юре стало его очень жаль, захотелось поддержать, утешить, но он только спросил:
— А ты? Здешний? В каком классе?
— Работаю… В гараже… А где родился, не знаю.
— Как не знаешь? — «Тоже, шутник нашелся!» И Юра, в свою очередь, решил пошутить: — А в анкете что писал? Для паспорта?
— А ничего! — опять у него был злой голос. Или Юре показалось?
— Откуда мне знать, — уже спокойней сказал парень, — если в три года… А может, в четыре… Я и сколько мне лет, не знаю. Назначили люди, я и взял… Имя только помнил… Тебя как звать?
Юра ответил.
— А меня Иван… Ваня… Вроде так называли.
— Где ж ты родился?
— Далече отсюда. Потому что тогда на поезде долго ехали. Это я помню… А еще я припадочный… — Сообщил, как похвастался. Так, во всяком случае, прозвучало.
«Полным-полна коробушка», — подумал Юра, но тут же обругал себя за несвоевременный приступ остроумия.
— Значит, ты в детдоме жил? — спросил он Ивана.
— Не пришлось. Нашлись добрые люди… взяли…
Они еще посидели на ступеньках закрытого магазина, Иван доел свой хлеб; потом ходили по площади, спустились к Иртышу. Иван шел, едва прихрамывая, Юра даже забыл, что у него деревянная нога, и почти все время новый знакомый рассказывал о своей жизни — лишний раз подтверждая то, что Юра хорошо понял уже с некоторых пор: что, действительно, многих почему-то тянет выкладывать ему о себе самое наболевшее, хотя ясно ведь, как день, что ничем Юра помочь не может, кроме умения слушать и сочувствия.
5
Смутно помнил Иван свой первый дом; две, кажется, комнаты, крашеный дощатый пол — он был к нему ближе всех других предметов: ближе, чем стул, на который не влезть, чем стол, до которого вообще не достать, ближе окон, полок… И было с кем в доме играть: значит, имелись братья, а может, сестры. И была мать. И отец. К отцу часто приходили люди. Все его так и звали — «отец». Помнит Иван полутемную комнату в другом доме, неподалеку, его часто водили туда или несли. Там всегда горели свечи, приятно пахло, что-то блестело; отец разговаривал с людьми, и все пели…
Но так было недолго. Один раз, он помнит, начались крики — в том доме, где свечи. Страшно кричал отец: «Не дам! Не дам!»
И еще вспоминает — уже в их доме, где крашеные полы… Тоже крики, ночью: только не отец, а мать. Потом упала на этот самый пол. На колени. А отец ушел в ту ночь с какими-то людьми.
После этого недолго жили у себя, вскоре поехали куда-то. Зимой, на санях. Он с матерью, братья, сестры — не помнит кто и сколько, — без отца…
А дальше — самое главное, но совсем смутно… Они едут в тесном деревянном ящике с одним маленьким окошком, какое у них в кладовке было. Ящик покачивается, гремит; людей в нем, как сельдей в бочке, но все равно холодно, многие кричат, плачут, стучат в дверь, которая открывается, не как обычная, а ходит туда-сюда, будто на колесиках. Этот ящик часто останавливается, долго стоит, и тогда еще хуже, оттого что слышнее плач и крики. И все хотят есть и пить, а кормят мало и чем-то соленым. Как нарочно. И вот… Не знает, как получилось, куда девалась мать… Помнит только, как перед этим обвязала она его своим платком; помнит, как стоит на снегу, где разные люди — не те, что с ними в ящике; как протягивает руку, просит хлеба — так его мать учила, пока ехали… И потом, помнит, в карманах и в руках у него куски, куски хлеба, а он все стоит… А матери нигде нет… Он идет вперед, потом назад, вошел в какой-то дом, где пахло кислым… Матери нигде нет… Ходит взад-вперед с хлебом в руках, плачет, зовет мать. А люди — одни мельтешат, другие спят, никому до него нет дела… Он снова вышел, понял, мать где-то там — где рельсы, много рельсов. И пошел куда-то между ними, а по бокам сугробы, слезы застилают глаза, ноги еле идут, он спотыкается, падает, поднимается… Потом и подняться не мог. Закрыл глаза, стало тепло, хорошо… Как дома… Пес Буян лизал щеки и нос, кто-то щекотал ему голые пятки. Это отец. Он любил так делать…
Полузамерзшего, его подобрал путевой обходчик. Ваня был в жару. Отвезли в больницу, выходили. Но начался антонов огонь в стопе, гангрена называется, пришлось отнять почти до колена… В больнице было хорошо: все добрые, кормят, по голове гладят, игрушки приносят, а как закончилось лечение и научили ходить с костыликом, тут уж…
Пока лечили, конечно, расспрашивали: кто он, что, как фамилия, где отец, мать. А он что помнил? Свое имя, и что мать, кажись, Марьей звали. И то не сам вспомнил, а когда начали ему имена разные называть — так, мол, а может, так ее величать? Он и сказал, вроде Марья… А отец — он так «отец» и был… И многие, кто выспрашивал, замолкали и не пытали больше про отцовское имя или фамилию. Да он и не знал, что оно такое — фамилия.
Вот… Из больницы-то уходить когда-нибудь надо — сколько можно?.. Это ему потом уже дядя Федор рассказывал. Федор Петрович. Хотели его сперва в детприемник отправить — чтобы в приют поместить. Насчет фамилии долго не думали: Ивановым записали. Иван Иванов — чего еще? Обрядили к выходу: нашлись добрые люди — ботиночки дали, рубашонку, еще что-то. Дело уже к лету было.
Стоит он на своем костылике посреди больничного двора… Помнит: поленница сбоку высокая. Дрова белые-белые, березовые… И подходит к нему нянька-санитарка тетя Ксеня, старая уже, сморщенная вся, и говорит: «Сынок, а сынок? Пойдем ко мне жить? Хочешь?» Он сразу уразумел, о чем речь, потому что спросил: «А мама?» «Я твоя мама, а Федор мой отцом будет… Мы, конечно, немолодые уже, сын у нас в Гражданскую еще убитый, но себя кормим и тебя прокормим…» Может, она тогда и не так точно говорила, но суть такая, и пошел он жить к тете Ксене. Федор Петрович на железной дороге в мастерских работал, слесарем; молчаливый такой человек, хмурый, но непьющий, и если о чем говорит, то больше о Боге, про Библию рассказывает — как там чего. Он ее всю насквозь читал когда-то, и была она у него в доме, а сейчас нету, потому что нельзя — запрещено. Вон и церквы все почти порушили, а то склады в них устроили, гаражи, священников поразогнали, на Соловки отправили… У них в Тобольске, как раз недалеко от рыбстанции, красивая была церковь, благолепная, он помнит. Успения Богородицы. Там теперь склад скобяной. А звонарь бывший, Тихон, сторожем при нем. Тоже безногий, как Иван, но живет на колокольне, потому больше негде. Забирается туда — никто не поверит — ловчее, чем те, кто с ногами…
Как сюда попали, в Тобольск? Это ему тоже дядя Федор недавно рассказал. Ведь жили они под Барабинском… Знаешь такой город, нет? Там Иван от матери и потерялся, и в больницу попал… Отчего уехали? Вроде из-за него — из-за Ивана. Чтобы, значит, не отобрали, в детдом не отправили… Ну, могли, могли, если говорю… хотели… были люди…
Они медленно поднимались вверх от Иртыша, когда Юра спросил:
— Ты в Бога веришь?
Почему задал этот вопрос, он не знал, но что-то в том, как говорил Иван, подтолкнуло его.
— А ты? — спросил тот.
— Я — нет.
Юра не верил в Бога; вернее, никогда не задумывался, есть он или нет, потому что знал, что его нет. Не могли же, в самом деле, находиться на небе старик с белой бородой и ореолом вокруг головы или тот, кто помоложе — с длинными волосами и короткой бородкой? Но в то же время вера никогда не казалась Юре чем-то нелепым или дурным, не вызывала, как у многих, насмешки, злобы, раздражения, неприятия. Ведь сколько людей верило и верит — значит, что-то в этом есть… А когда бывал в церкви — с няней-Пашей, с отцом, иногда один — из любопытства, то всякий раз испытывал легкое волнение, ощущал торжественность минуты, и на это время его неверие и недоверие почти пропадали. Чаще всего заходил в церковь в Богословском переулке, недалеко от их дома, а еще в ту, что в Брюсовском, и в Храм Христа Спасителя на Волхонке, с отцом; тот показывал ему там росписи — кажется, Васнецова; бывал в Иверской часовне у Красной площади; любил бродить по залам бывшего Страстного монастыря, где тогда открыли антирелигиозный музей, но Юру мало затрагивали лозунги — насчет «опиума для народа» или «враждебных действий попов»; он безучастно проходил мимо произведений знаменитых плакатчиков-атеистов — Ганфа, Скаля, Черемныха; его не интересовали брошюры под названиями: «Стройте безбожные колхозы», «Долой кулацко-поповскую пасху», «Нужна ли религия»; его никогда не тянуло вступить в ОВБ («Общество воинствующих безбожников») или стать членом бригады книгонош — распространителей антирелигиозной литературы. Он не задерживался перед грозным призывом: «Каждый должен быть безбожником! Оспаривать это может только тот, кто против диктатуры пролетариата!..»