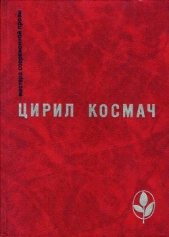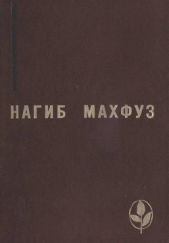Избранное
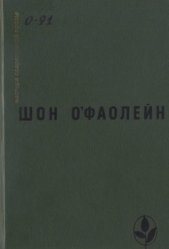
Избранное читать книгу онлайн
В том вошел лучший роман крупнейшего ирландского прозаика, романиста и новеллиста с мировым именем «И вновь?», трактующий морально-философские проблемы человеческого бытия, а также наиболее значительные рассказы разных лет — яркие, подчас юмористические картинки быта и нравов ирландского общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не обращал особого внимания на ее картины, пока в нее не влюбился. Тогда я заметил, что живопись ее, казалось бы, беглая, легкомысленная, забавная, на самом деле изображала бедствие за бедствием: вот трое мальчишек в домино валятся со слоновьей спины, вот злорадная буря разгоняет врассыпную веселый молодежный пикник, вот младенческие ручонки радостно вытряхивают из поднебесья солонку и перечницу на вычурный собор, вот ярко разубранный пустой зоопарк с распахнутыми клетками. Символика прояснилась, когда мы стали любовниками. Ее работы, внешне реалистические, с налетом фантастики, все варьировали одну и ту же жутковато-обыденную тему — тему крушения детских мечтаний. Всем юным ясновидцам ее картин чудится налетевшая беда; девичьи грезы, едва возникнув, рассеиваются, как дым на ветру. Она мечтала, как девочка, и по-взрослому мстила себе за мечтания — сокрушала иллюзии, карала слабость, не щадила беззащитности. То, что я говорю так, ничего не говорит обо мне: можно вывести только, что и я, не в пример старше ее, не единожды разбивал свой кувшин о каменный край того же колодца. Набравшись опыта, я, вполне потакавший причудам маленькой Аны, стал гонителем фантазий большой Анадионы. Мы жили в перемежающейся лихорадке, в вечной жажде еще и еще раз изведать сладостную горечь ненадежной любви. Мы часто вздорили — и бурно мирились. Двойничество? Близкое сходство? Брак нежелателен, детей не дай бог.
По ошибке или по глупости, но я не разглядел вовремя, что она (как, может статься, и все мы) способна жить лишь в разладе с собой. Ее эмоциональный противоток — то бишь ее переменчивость, избыток воображения, нездешность и романтичность, — все, с чем она боролась, все это оберегало ее по видимости несовместный, по сути же дополнительный облик чрезвычайно практичной женщины в костюме от портного, безукоризненно сшитом по ее неженской фигуре: острый прищур (носить очки она стеснялась), холодный и проницательный взгляд, взрывы смеха (ее чувство юмора включалось мгновенно), кулак, которым, казалось, можно пришибить лошадь — словом, посторонний ни за что не угадал бы в ней мечтательницу, larmoyante [29], которая, если ее застигнуть врасплох, может растеряться, перепугаться и разреветься, как беспомощное дитя.
Этот ее двуликий облик — мое неотвязное первое впечатление многолетней давности — я уразумел благодаря обыденному и даже комичному случаю, когда однажды утром она зашла ко мне в галерею и мы отправились выпить кофе на Графтон-стрит. На прощанье она вспомнила, что ей надо в «Вулворт», купить молнию, а мне было нужно что-то для кухни — да, заварочный чайник, — и мы оказались по разные стороны одного и того же торгового стенда. Подыскивая чайник, я заприметил слева от себя бедно одетого мальчонку, который глазел на хорошенькие бантики из розовых лент, какие вплетают в косички; он взял ленту, потом положил ее обратно, постоял в нерешительности, не сводя глаз с бантиков, воровато огляделся, снова завороженно взялся за ленту — словом, его намерения были яснее ясного. Тут я увидел, что Анадиона тоже следит за этой пантомимой. Я подумал, не купить ли мальчишке ленту, но устыдился сентиментального жеста, да к тому же мне было любопытно посмотреть, чем это кончится.
А кончилось тем, что Анадиона быстро обогнула стенд, присела на корточки перед малышом и ласково сказала:
— Ты хочешь ленту для своей девочки? На тебе двадцать пенсов. Бери, бери! Купи ей ленточку.
Мальчишка немедля заграбастал две монетки и пустился наутек. Заверещал сигнальный звонок. Дежурный кинулся к дверям и перехватил беглеца. Мы с Анадионой подошли следом. Она негодовала:
— Оставьте ребенка в покое! Я дала ему денег заплатить за ленту.
Тот окрысился:
— Мадам, не суйтесь не в свое дело! Мы этого пащенка знаем. Это воришка. Мы его уже три раза выставляли из магазина.
— Но у него же есть деньги! Он заплатит!
— Как же, заплатит: он дал тягу с товаром в одной руке и деньгами в другой!
Нас четверых обступили продавцы и покупатели. Поднялся сердитый галдеж. Мальчишка ревмя ревел. Куда девалось все достоинство Анадионы! Полчаса или десять минут назад она сошла бы за графиню Килларни. Теперь лицо ее испятнали гнев и жалость. Выглянули коронки, ноздри увлажнились, ее сотрясала дрожь, голос стал визгливым. Я, единственный мужчина в толпе, кроме дежурного, вмешался и вкрадчиво сказал ему:
— Вы совершенно правы, но доказать это вам ни за что не удастся. Говорю вам как юрист: вышвырните его, и дело с концом.
Он благоразумно и энергично последовал моему совету, а я увел громадину Анадиону, которая взахлеб рыдала и орала на меня: я, дескать, самодовольная скотина, вонючий буржуазный чистоплюй, меня, борзописца, из желтой прессы и то надо гнать поганой метлой. За руганью она не заметила, как моими стараниями очутилась у стойки бара в «Шелборн-Румз», а немного погодя мы отправились в парк, где она вдруг закатилась громким хохотом при виде уточки в пруду: та, медленно перекувырнувшись, зачем-то сунулась клювом в ил, — ну, стало быть, приступ романтики кончился и зеленый здравомыслящий человечек снова пристроился у нее на плече, до следующего раза.
«Меняйте все, — воинственно сказал Вольтер, — оставляйте одну любовь». Будто бы она, всесильная любовь, не меняется быстрее всего остального. Я знаю, надо было раньше заметить, что перемены создавали постоянство моей любимой, как лунные фазы создают луну, но я рад, что раньше этого не заметил. Долго и медленно, подчас мучительно, исследовал я Анадиону, и какая же сомнительная радость слаще любовникам, чем вранье пополам с воспоминаниями? А ты когда? А ты где? А ты тоже?.. Да, драгоценное и болезненно необходимое отвлечение это было в годы после смерти Аны, про дочь которой, откуда она такая взялась и что она за человек, я знал не больше, чем про себя.
Добираясь до ее сути, я завел обычай ездить с нею в холмистые окрестности Дублина, на заманчивые взгорья; был там один поросший деревьями склон к мутно-вспененному озерцу, и на этом прибрежном безлюдье, на песке, желтом, как ее волосы, мы полушепотом, любовно узнавали друг друга. Однажды, долгим и теплым майским днем — в 1975 году это было, — мы, посидели-пообедали у озера Лаггэлоу, а потом она отшептала-откинула пыльные завесы времени, и с внезапным восторгом я понял, что держу в объятиях вовсе не сорокачетырехлетнюю женщину, а пылкую, мечтательную девушку, которой нет и двадцати.
— Целых шесть лет прожила я на Фицуильям-сквер, в темно-розовом доме на огромной темно-розовой площади, образованной высокими ровными кирпичными строениями, позади которых были узкие садики, большей частью запущенные, заканчивавшиеся ветхими георгианскими конюшенками: классические пилястры, фронтоны и круглые ниши — в этакой крытой нише слева от нас пребывал бюст никому не известно чей, совершенно, как я понимаю, пропащего для мира человека. Светлыми летними вечерами я видела из окна своей спальни на верхнем этаже задние стены домов и белый тыл облаков, скопом гонимых за крыши и крыши, за канал, за Лиффи, к морю. Эти дублинские крыши были как серо-голубое озеро. А с другой стороны, спереди, из окон классной и няниной комнаты, я видела зеленый скверик посреди розовой площади, незримый для нижних прохожих за оградой, кустарником, строем деревьев. Няня Дениза, бретонка, водила меня туда играть с моим терьером Грубом: она медленно отпирала калитку — только у здешних жителей были ключи, и редко кто ими пользовался, разве какой-нибудь няне с коляской захочется почитать на скамеечке, — калитка отпиралась и защелкивалась.
Вот уж я ненавидела Денизу. Такая была подлая баба. И надувала Ану в чем только могла.
(Не мешает отметить: у девочки не было ни «мамы», ни «матери» — «Ана», и все тут.)
Как Ана уедет на скачки или вообще просто на день-другой, как оставит меня, наобнимавши и расцеловавши, в добрых, надежных руках милой Денизы, так моя милая, добрая, надежная няня раз-два и привяжет меня на длинный поводок к радиатору, а сама пошла в город поболтать с подружкой или просто по магазинам. Сплетница она была первостатейная, а уж посплетничать ей, нянюшке, было о чем. Я росла, что называется, перильным ребенком, глядела сверху, из-за перил, как, наверно, многие дети в шикарных домах по всему миру, стояла в своей белой ночной рубашонке и глазела на прибывающих дивных гостей, а рядом торчала Дениза и сопровождала каждого ехидным словечком. Четыре года назад я ее навестила на родине, в Нанте, она пережила всю войну и там доживает жизнь, — и оказалась она маленькой, старой-престарой старушечкой, согнутой в три погибели, словно уж очень наперегибалась через перила. И весь ее разговор был про Дублин.