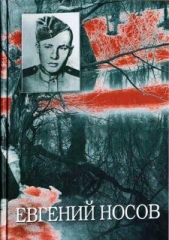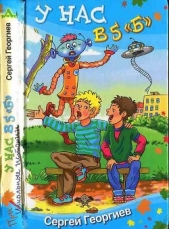Последний парад

Последний парад читать книгу онлайн
В новую книгу известного русского писателя, лауреата многих литературных премий, в том числе международной Платоновской и премии "России верные сыны", финалиста национального "Бестселлера-2003", вошли рассказы и романтическая повесть "Белая невеста".
Карамболь - это мастерский удар, который доступен лишь "академикам" бильярда. Карамболь - это изысканность, виртуозность, непредсказуемость. Все эти качества присущи прозе Дегтева, а представленным в книге произведениям, в особенности.
Критики отмечают у Дегтева внутренний лиризм до сентиментальности, откровенную жесткость до жестокости, самоуверенную амбициозность "лидера постреализма". Они окрестили его "русским Джеком Лондоном", а Юрий Бондарев назвал "самым ярким открытием последнего десятилетия".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тепло давних лет
Нельзя войти дважды в одну и ту же реку.
Гераклит
В детстве Колюшок просыпался рано.
Солнце только-только покажет вихрастую макушку из багрового леса, а он уже сидит на погребе, поросшем мясистой глухой крапивой, на горбатом погребе, похожем на чей-то крутой, нечесаный спросонок затылок. Рядом лежит, вытянувшись, вислоухая Дамка, преданно заглядывает в глаза. Смущенно отворачиваясь, собака громко зевает. Зевает и Колюшок…
Розовато-сизая дымка уплывает, нехотя отрываясь от согревающейся земли. Терпко пахнет цветущим табаком, парным навозом; с пруда, где гулко плещется рыба, тянет влажным илом, глиной, луговыми, горькими травами; из заглохшего, сырого после ночи сада, наносит вишневым, раскисшим от росы клеем. Пробуждаются птицы, что живут в кустах бузины и смородины, – гоношистые, крикливые дрозды и серенькие, похожие на воробьев, славки. Неприметно выпархивая из гнезд, из сумрачного полумрака кустов, улетают они за кормом, а их голые дети мерзнут и оттого истошно пищат…
На верхнюю, сухую ветку чернослива грузно опускается старый удод. Он доживает свой удодий век, в гребне его осталось всего несколько перышек неопределенного, грязного Цвета, и уже третье лето удод не заводит семью. Старик долго сидит, нахохлившись, – думает ли о чем, созерцает ли суету носящихся туда-сюда в заботах молодых птиц или просто греется, – наконец срывается и, часто махая крыльями, улетает куда-то на весь день.
Солнце поднимается – алое, круглолицее – и щурится спросонья. От крыш валит пар, дрань потрескивает, высыхая; цветы в соседском фефеловском палисаднике поворачивают пунцовые кулачки бутонов встречь Ярилу, разжимают их, – и с лепестков, нежных, как губы ребенка, скатываются капли голубой влаги; мир, отраженный в них, раскалывается, разлетается огненными брызгами. Пробегает сонный ветерок, ночевавший в сиренево-таинственной глубине сада, дружески ерошит чуб Колюшка цвета августовской перестоялой травы и уносится в поле – крутить ветряк, что виден иногда, в хорошую погоду, заплетать косы задумчивым придорожным ивам, гонять пшеничные волны, вознося над ними желтое марево хлебной пыльцы, – да мало ли…
Раздирая парусину утра, трещит тракторный пускач… Сладко пахнет бензином, солярка щекочет в носу, и вот уже трактор Васьки Лявухи проезжает мимо, и Колюшок чувствует, как в погребе осыпается со стен земля, как трясется матица… Ну хоть бы разок Лявуха дал прокатиться! Ребята просят – им дает, а Колюшок просить стесняется. Ну хоть бы догадался да предложил…
Колюшок долго смотрит вслед трактору, внюхивается, стараясь услышать волнующие запахи, вслушивается, пытаясь разобрать томительные звуки, но уже растворился и шум, и дух машины в безмерном малиново-голубом просторе…
На "Шпиле", на другом конце хутора, хлопает кнут. Отворяются ворота – одни, другие… Телка Ганьки Хохлушки выскакивает с варка, заломив на спину хвост; фефеловская корова показывается в задумчивости, погруженная в самое себя; козы с овцами, сбившись гуртом, набрасываются на лопухи – как с голодного края, куцехвостые! За стадом – когда оно выходит на луг – тянется темно-зеленая полоса – коровы моют росой ноги… Колюшок сидит на погребе, смотрит, слушает, – день впереди велик и интересен.
Мать Колюшка – Нюрица – работает в магазине уборщицей, грузчиком и еще кем-то одновременно.
– Поесть не забудь! – строго говорит она, собираясь на работу.
– Чтоб всю чашку съел – я оставила! – строго говорит она, останавливаясь, – высокая, стройная, в голубом с алыми маками платье, что очень идет ей, оттеняя ее черные волосы и бледность лица; лишь старые туфли портят вид.
– Если не съешь – не обижайся! – строго говорит она, но Колюшок замечает в ее глазах затаенный интерес, даже недоумение: почему не боится?
– Ладно, поем…
– Поешь, сынок, поешь. А то худой – одна голова осталась. Гоняешь целыми днями – разве так можно! – уже не строго говорит она и, чему-то улыбаясь, уходит.
Колюшок выносит из хаты миску со щами; от варева поднимается пар. Дамка нюхает воздух, искоса поглядывает на ломоть хлеба, которым прикрыта чашка, отворачиваясь, облизывается вежливо. Колюшок крошит хлеб, деревянной ложкой с отставшим лаком долго размешивает. Ест неспешно, выкладывая на дощечку для Дамки раскисшие куски.
Подходит Фефелов. Лицо его.- толстые, коричневатые Щеки, глубоко посаженные глаза, маленький, пуговкой, нос – напоминает спелую тыкву, и всякий раз чудится, что под засаленной фуражкой у него не розовая лысина, покрытая светлым пушком, а тыквенный черенок – стебло.
– Что за люди! Только проснутся – сейчас же есть. Ты знаешь, что Чапаев по этому поводу говорил: жрать – свинячье Дело. – Меня мать заставила, – в тон Фефелову отвечает Колю-шок, понимая, что тот шутит.
– А, ну ежели мать… тогда ешь дюжей! Пойдешь со мной?
– Конечно, дядь Хвиль! – вскакивает Колюшок.
– Но-но-но! Доедывай сперва; так – не возьму.
Фефелов не простой кузнец – "ковочный"! Не смущаясь, он часто это подчеркивает, ибо не всем кузнецам дано лошадей ковать, иные всю жизнь на болтах да скобках сидят.
Кузня с конюшней за хутором, на пригорке, среди старых дуплистых лозин. Чем-то древним, патриархально-сермяжным веет от этого места. Тут и земля особая – пропитанная лошадиной мочой и потом, перемешанная с рыжим железным прахом, – и воздух, в котором сплелись запахи окалины, горелого масла, новых гужей и дегтя.
Фефелов разжигает горн, берется за отполированную до блеска ручку мехов с въевшейся в поры дерева копотью, качает, привычно поругиваясь, что, дескать, во всех кузнях давно уже электрические воздуходувки, только у них – эти дедовские мехи. Мехи и впрямь дедовские: латаные-перелатаные, хрипящие одышливо, – они не столько раздувают огонь, сколько поднимают пыль… По краям угли еще красные, как десна, но в середине уже белеют сахарно, словно зубы, раскаляясь все жарче и жарче. И будто язык – меж ними чернеет железный прут, искривленный и длинный, как у драконов, что рисуют на китайских термосах. Голубыми, фиолетовыми – иногда вдруг ярко-желтыми – волосами поросла драконья морда, и при каждом хриплом выдохе мехов встопорщенная борода становится гуще и пышнее…