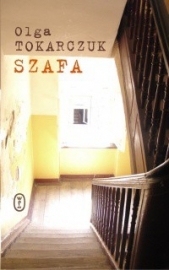Игра на разных барабанах

Игра на разных барабанах читать книгу онлайн
Ольга Токарчук — «звезда» современной польской литературы. Российскому читателю больше известны ее романы, однако она еще и замечательный рассказчик. Сборник ее рассказов «Игра на разных барабанах» подтверждает близость автора к направлению магического реализма в литературе. Почти колдовскими чарами писательница создает художественные миры, одновременно мистические и реальные, но неизменно содержащие мощный заряд правды.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Казалось, все шло без перемен. Казалось, так могло продолжаться бесконечно — жизнь в аварийном режиме; кто знает, вдруг забастовка — это нормальное положение вещей, естественное и наиболее созвучное природе человека, в отличие от застывшего, затхлого порядка. Но где-то там, под спудом всем становилось невмоготу.
Однажды вечером Кирилл взбесился; со страшным, нечеловеческим воем он бежал по коридору, отталкиваясь от стен. Его дикий рев во внезапно наступившей тишине в стенах бывшего гестапо, на плохо освещенных лестничных площадках, звучал зловеще, бесцеремонно заставляя нас пробудиться от сна голосований, оторваться от списков требований, от идеи непрерывной забастовки. В страхе мы прилипли к стенам.
За Кириллом бежала Б., пытаясь его успокоить, притянуть к себе, обнять. Он вырывался. «Кирилл, Кирилл», — повторяла она монотонно, словно желая его усыпить. Наконец он позволил себя остановить, а Б. и еще несколько человек с отделения клинической психологии отвели его в какую-то аудиторию. Преподаватель по гуманитарной психологии велел нам всем разойтись. Мы пытались раствориться в длинных коридорах, в аудиториях, но и туда доносился ужасный рев Кирилла. Я слышала глухие удары, это он бился головой о стену.
В конце концов вызвали «Скорую». Немного погодя мы увидели, как Кирилла выводят в смирительной рубашке.
Кто угодно сойдет с ума, сидя тут взаперти, — переговаривались мы между собой, — в этих душных прокуренных коридорах, где хоть топор вешай, а из всех окон видны только серые кубики многоэтажек, торчащие между голыми деревьями, да земля в бело-коричневых пятнах, как зимний армейский камуфляж. Скорее бы все это кончилось. Разойдемся по домам.
До пани Анны мне было ближе всего — Новый Свят, первая арка за кондитерской Бликле, большой двор между домами, образующими не совсем правильный квадрат. Песочница, две лавочки, бетонные ограждения помоек, несколько кленов, кусты с белыми шариками ягод. Квартира пани Анны была на пятом этаже, высоко, поэтому она так неохотно ее покидала. Коридорчик, комната и кухонька. Балкон выходил на Новый Свят. Пани Анна смотрела на улицу сквозь тюль — и, наверное, видела ее, всю разрисованную геометрическими узорами, нерезко, как сквозь туман. Два раза в неделю она спускалась вниз, делала какие-то жалкие покупки в пустых продуктовых магазинах, а потом шла в «Любительское» выпить рюмочку коньяка (от кофе она давно уже отказалась). Там мы с ней иногда назначали встречу. Случалось, что какое-то время мы сидели за столиком вместе с Че Геварой, но ей это не нравилось. Пани Анна смотрела на его выходки и кривлянье с неодобрением.
— Возьмите себя в руки! — шикала она на него, поднося рюмку ко рту. Только когда Че Гевара уходил, позванивая котелками и гильзами от патронов, нанизанными на веревки, она произносила:
— Все хуже и хуже. Пью теплое молоко, кладу к ногам грелку — без толку. Не сплю целую ночь, редко когда задремлю на четверть часа, но это какое-то мучительное, тягучее, бессмысленное забытье. Ах, дитя мое, что делать, что делать? — вопрошала она драматически, сжимая мне руку худыми пальцами.
— Может, вы мало бываете на свежем воздухе? — наивно спрашивала я; это была наша давнишняя игра.
— Ах нет, дитя мое, я проветриваю каждый вечер не менее получаса, — отвечала она.
— Может, вы слишком плотно едите на ночь? — делала я вторую попытку.
— Нет-нет, дорогая, позже пяти я не ем.
— Можно попросить выписать вам таблетки, — раскрывала я наконец карты.
Тогда она откидывалась на стуле и на мгновение замирала в позе оскорбленного достоинства.
— Я этого никогда не позволю, никогда, — выдыхала она в конце концов. — Это чревато катастрофой, не знаю, какой, но точно чем-то ужасным.
— Пойдемте прогуляемся, пани Анна.
Это все, что я могла ей предложить.
Мы шли по улицам Фоксаль и Коперника, а потом возвращались по Свентокшиской обратно на Новый Свят. Или в другую сторону, к реке; за рекой открывались манящие просторы, которые, наверное, влекли нас обеих, хотя мы никогда об этом не говорили. Углубиться в прибрежные заросли, пойти вдоль реки, подчиняясь направлению ее извечного движения, покинуть город, забрести далеко в скованные морозом поля, шагать по проселочным дорогам, пересекая обозначенные ивами межи. Может, дойти до моря, а может, наоборот — двинуться на юг, через горы, на большую равнину. Сбросить сначала шапки, потом варежки и в конце концов оставить на краю виноградника зимние пальто. Все глубже погружаться в удлиняющийся день, чтобы тело омывал свет.
Она всегда зябла, независимо от погоды. Закусив губу, внимательно рассматривала каждый метр тротуара, поручни, ступеньки, мыском ботинка ощупывала бордюрный камень. Иногда, заметив какую-нибудь дыру, изъян, пятно ржавчины, она бросала мне заговорщический, скорбный взгляд. Так мы шагали рядом, тепло закутанные.
Она приказывала мне смотреть внимательно. Я смотрела и видела город — неизменно серый, всех оттенков серого, неприятный на ощупь, холодный, шершавый, треснувший пополам, с раной реки посредине. Редкие автобусы беззвучно катили по мостам и сразу возвращались обратно. Люди раздваивались, отражаясь в огромных потемневших стеклах витрин. У всех изо рта вырывался белый пар, словно душа, нерешительно покидающая тело. Однажды она спросила меня, где я живу, и, узнав, что на Заменгофа, от ужаса прикрыла ладонью рот.
— Разве можно строить дома на кладбище? Они должны были отгородить руины гетто от остальной страны и сделать там настоящее кладбище, музей. Впрочем, так надо было поступить с целым городом. Кто мешал заново построить Варшаву где-нибудь около Ченстоховы, поближе к Деве Марии, или над Наревом, там так красиво. Уезжай оттуда, дитя мое.
Я много раз обещала, что так и сделаю, и провожала пани Анну домой, в ее высокую и узкую, как скворечник, квартирку. Стряхивала ей снег с пальто, заваривала чай «Мадрас» в белом фарфоровом чайнике и ставила вариться картошку. Она меня теребила:
— Говори со мной, спрашивай, отвечай, я хочу устать и уснуть, я наверняка усну, когда ты уйдешь.
Ну я и несла что приходило в голову. Рассказывала ей о забастовке, о переменах, которые должны наступить, о разных людях, но, вообще говоря, это был странный монолог. Мир за окном квартиры пани Анны казался нереальным, тревожил отсутствием жизни. Там, внизу, ничего не менялось: лозунгов с такой высоты было не разобрать, шум любой манифестации терялся в лабиринте дворов и расходился эхом, повторявшим одну стертую фразу, утратившую уже всякий смысл. Город состоял из крыш, антенн и труб — он был построен для птиц и облаков, для вечно хмурого неба, для темноты. Не для людей.
— Видишь, дитя мое, это уже конец. Видишь, как там, на горизонте, все расплывается, видишь?
— Это всегда в такую погоду, — успокаивала я ее.
Наверное, мы тогда против воли были втянуты в какую-то космическую войну. Может, это планеты делили сферы влияния? Да, наверняка что-то такое было. Люди охотились друг на друга, стреляли с близкого расстояния — в папу римского, в Рейгана, в Леннона. Казалось, все вот-вот превратится во что-то другое, совершенно пока неизвестное. Действительность постоянно меняла очертания. То ли видимость, то ли реальность маячила впереди, застряв на пороге впереди. Колыхалось на солнечном ветру марево миража.
— Мир — это мой сон, — говорила пани Анна, бережно ополаскивая в раковине чашки, из которых мы пили чай, и старательно вытирая ложечки кухонным полотенцем. — Он мне снится, хотя у меня проблемы со сном. Ты не можешь мне помочь, — продолжала она. — Никто не может. Ты просто приходишь сюда, и мы разговариваем. Мир гибнет, это уже конец.
Я ей не верила, но спускать ее с небес на землю мне уже не хотелось. Почему все должны стоять на земле, говорила я себе. Нет ничего плохого в том, что человек думает, будто от него зависит существование мира, будто он несет его на своих плечах, как атлант. Будто он его спасает, умирает за него. В известном смысле в этом есть доля правды. В известном смысле в этом великая правда.