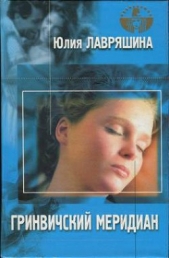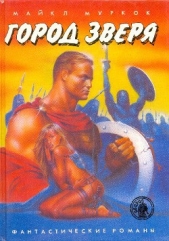Город

Город читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В третьих, через дым горячей их увлеченности, разглядели все наконец идиотов. В выигрыше обнаружились те, кто занялся делом, безразлично каким: карьерой, коллекционированием денежных знаков; делом ли занимался я? рукописью моей я уверенно говорил нет и моему настоящему и моему недавнему прошлому, говорил нет, изобретая иначе и прошлое моё и настоящее: так я ухитрялся творить моё будущее, не подозревая о нем; и ведь я изменил моё будущее: изменивая моё представление о моем прошлом; я развивал уже нажитое умение жить представлением (благодарный поклон мой вам, любезный Юлий Сергеевич), и роман о Мальчике, законченный мною в июле восьмидесятого, тоже устраивался не из знания, а из представления. Черные ночи над зимней Невой: и уже точно не я записывал, лихорадочно, текст, а кто-то другой, моей рукою, моим пером… и февральской ночью мой труд был окончен, груда грязно исчерканных листов. Жить вновь сделалось неудобно и ненужно. Зимним днем, когда зажигали уже в деканате лампы, и вечерняя уже, торосистая Нева, за узкими окнами, лежала в дыму и сумерках, я робко просил величественную машинистку Маргариту Николаевну перепечатать мою рукопись (я уже знал, что рукописи нужно отпечатывать на машинке), я искренне смущался моей рукописи, голубчик, величественно проговорила Маргарита, здесь даже названия нет, разве, удивился я, и чуть-чуть подумав, вывел: Рота захвата, единственное из возможных названий; Путь Выступления, величественно и загадочно заметила Маргарита, я всё жду, когда принесут рукопись, которая звалась бы Путь Возврата, а вы все пишете Пути Выступления (о чём говорила Маргарита, я узнал лишь через семнадцать лет. когда мне взбрело в голову всерьёз почитать Бунина), и рукопись вернулась ко мне чисто переписанной на машинке в четырех экземплярах, сто шестьдесят три странички, утомившие меня тем, что каждое слово в них казалось мне чужим; прятать огонь этой свечки под горшок я уже не мог; уже магия сочинительства, магия авторства тащили меня в ад издательских мучений. Весенним днем, с неуверенностью поглядывая на грязный лед с кружащей высоты Дворцового моста, я шел через Неву: к Мойке, где возле Исаакия, в темном доме на набережной, жила редакция уважаемого литературного журнала; я хотел, для внушительности, заключить рукопись в красивый переплет, и Маргарита, усмехнувшись, заметила, что переплеты, тиснения, петухи: визитная карточка графомана; я ей не очень поверил, но упрятал рукопись в копеечную папку; темные коридоры редакции огорчили меня запущенностью, а другой берег Мойки, видный из темных комнат, освещен был таким красным, вечерним солнцем, что мне захотелось тихонько улизнуть, туда, где вечерний холод, красное солнце и мокрый лед, всю жизнь я избавлен был от малейшего намека на предчувствия (лишен предчувствий, и безразлично я шел мимо домов, где ждали меня в недалеком будущем очаровательные любови, или блистающие вечера, или чудесные карточные выигрыши… и легкое отвращение, с каким вошел я в редакцию уважаемого журнала, известило меня о моем будущем. Через одиннадцать лет, уверенно, войду я сюда редактором прозы: осенью семьдесят третьего Пуделек начнет ведать прозой в журнале, и призовет меня, умудренного литератора, под знамена… я любил Крепость, и висячий мостик с золотокрылыми львами. Зимним синим утром, глядя на лежащую, в синеве еще ночной, всю заснеженную, в звоне курантов, Крепость, мог ли я знать, что в небольшом, в два этажа, доме, у стен Крепости, видит детские еще, или уже злые взрослые сны девочка; чёрт, сколько же ей было тогда, в шестьдесят первом, зимой, четырнадцать, или тринадцать лет, девочке, Ире, которая, юною женщиной, уязвит любовью мою душу, и уведет меня, ничуть обо мне не печалясь; я встречу ее в театре осенним днем в шестьдесят девятом, днем, в котором я утерял и красавицу жену и пленительную мою актриску; затем, вновь в театре, где я Мальчика не нашел: уже в ноябре. В знойное лето, когда горели леса вокруг Города и жаркий воздух пронизан был хвойным дымом, я вдруг встречу ее в каменной галерее Серебряных рядов, что над узким, гранитным каналом Грибоедова, и с нею, удивительной женщиной-девочкой: в легкий путь, по жарким и солнечным, вечерним, где ни единой души и где пахнет дымом лесных пожаров, гранитным набережным; вместе с ней взойду я на висячий мостик, удерживаемый четырьмя, с золотыми крыльями, львами: еще не зная, что темный, над гранитом, над мостиком, над золотыми крыльями и вечерней, блестящей июльской водою, дом — и есть дом Насмешницы; туда введут меня еще через два года, в сентябре семьдесят третьего; меня введут в тот дом; и я забуду женщину-девочку Иру, и в жёны ее не возьму… Каких знамений, каких огненных знаков ни увидишь, когда вновь идешь через жизнь, уже нагруженный знанием всего, что будет; заманчиво усмотреть в жизни исчезнувшей: закономерность; и пытаться наконец угадать, в темной больничной ночи, каким же образом, из ничего, возникает будущее и отвердевает, делаясь реальностью, жизнью, и жизнь исчезает, оставаясь лишь клубком ярких вспышек в моем разгоряченном мозгу. Чудится мне теперь, что к писанию моей рукописи, где перекличка воронов и арфы, я пришел, как заболевший пес к целительной траве; а идти в журнал было уже не нужно…), я ушел в тот весенний вечер из журнала весьма огорченный; будущее грянуло фейерверком; феерией; историей Золушки. Когда мне предложили напечатать мою рукопись, я ничуть не удивился. Как все несведущие читатели, я считал, что в журналах печатают все повести и романы, какие только пишутся в государстве. Что такое издательства и чем они занимаются, я вообще не представлял; издательство, считал я, такая типография. В журнале покачали головой над моей рукописью; и велели мне, если я хочу ее напечатать, вычеркнуть то-то, выкинуть половину красочных прилагательных, середину переиначить в конец, начало сделать серединой, убрать четыре главы, неудобные для печатания, а всю повесть урезать на треть. Так я узнал, что мое сочинение зовут повестью.
Точно в бреду… (а уже дышало лето, легкий сумрак белых ночей. Куранты звонили над темной Крепостью. Все светлей, прозрачней делались ночи. В их дымке июньской, выше Города и дворцов набережной, поднимались черные и широкие пролеты железных мостов: с красными огоньками. Тревожно пахло сыростью луговых трав и речной водой. Двигались беззвучно громады торговых судов, нарядные белые надстройки, разноцветные огни. И бродили внизу на набережной веселые тепленькие компании, душераздирающе орали нестройным и хмельным хором: …э-эй, моряк! ты. слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол! Ево хо-чу любить!.. и вновь, и вновь:…нам-бы-нам-бы-нам-бы-нам-бы всем на дно! там-бы-там-бы-там-бы-там-бы пить вино! там под океаном, трезвым или пьяным, теперь нам
всё рав-но!.. эх-ей! моряк!.. и прочее, всё из сногсшибательного, красивого фильма Человек-амфибия, фильм действительно сшибал с катушек, жизнь переломилась, если такой джаз и разложение дают в отечественном кино, и звучание, томящее душу, неизвестных еще вчера электроинструментов, и неизвестное вчера имя: Андрей Петров; который уже к вечеру стал знаменит; уже близилось время, когда грянет из всех окон первый отечественный твист Лучший город земли; и, выметая его вместе с устаревшим рок-н-роллом и обветшалым джазом, вломятся шейк и балдёжные мелодии бит…. жить торопились взахлеб. Клубились бледные, летние ночи, и туманом клубилась почти ненастоящая еще зелень деревьев в Крепости, и на стрелке Васильевского острова, и в далеком, за живой и громадной Невою, Летнем саду. Где-то за Крепостью, рано, в третьем часу, поднималось летнее солнце. К чёрту катилась пропащая сессия…) точно в бреду, я черкал машинопись моего творения, вычеркивал, упразднял и урезал, и вычеркивал, почти не понимая, что я вычеркиваю и зачем, я жил уже увлеченностью вычеркивания… в журнале еще покачали головой над моей повестью; и отправили ее в набор; и тут же мне присоветовали, с вариантом улучшенным, прогуляться чуть дальше Мойки: в издательство, что на канале Грибоедова; если там не выгорит, иди к Фонтанке, в издательство, что в Торговом переулке; действуй; никто за тебя с твоей рукописью ходить не будет. Теряясь в смущении, я приперся в издательство и вломился прямо в кабинетик к Главному; и явилось чудо: Главный (вдруг!) меня полюбил! Учить деревенщину, подмигивали мне. Главный? пчелу будет учить летать: личным примером. Рысака на ипподроме остановит: разъяснит, как бежать. В горящую избу войдет: учить, как гореть; прежней закалки мужик. Везет тебе, говорили за рюмкой: доверчив. В журнале мою повесть напечатали в ноябре. И никто ее не заметил. В ноябре, в декабре в шестьдесят втором году все читали нечто другое. И легла другая зима: с темнотой, злой стужей, ветром, сугробами. В кабинетике Главного длилась вечная, уютная ночь. Темно-красные плюшевые портьеры, темные портреты вождей: в полутьме, где зеленая лампа освещала лишь мою рукопись. В синем и золотистом табачном дыму тяжелый красный карандаш шажками двигался вдоль строчки, замирал: и ворчливо вычеркивал; вечерами Главный трудился над моею рукописью; великий мастер, он заставлял меня писать новые, новые куски и главы; чтобы легче было вычеркивать прежние; и заставлять меня дописывать вновь; учил глянуть на героев с недоверчивым прищуром: кто его знает, с усмешкою добродушной, что у него, у героя твоего, на душе, а ты давай её, душоночку-то, давай сюда, разберемся… задумывался над страничкой глубоко, и вдруг мечтательно говорил: сделаем так!.. а этого разгильдяя уберем, уберем, решительно и с доброй усмешкой, нечего! Ишь!.. и искренне я смеялся; мне нравилось сидеть с ним вечерами и изменивать рукопись, нравилась его добродушная и ворчливая манера обращения с чужим текстом. Уже исчез для меня ночной зимний аэродром в тайге, уже не видел я дикую зеленую и желтую Луну; уже не чудилась мне перекличка воронов и арфы; вечерами, в кабинетике темном, где лишь зеленая лампа освещала рукопись, творилось изъятие приятное убежденности. Красный жирный карандаш делался неоспоримей воронов в полночной тишине… и единственное, чему я научился здесь, на всю жизнь: зачеркнутое красной жирной чертой выглядит, для человека невежественного, куда менее убедительно, чем незачеркнутое.