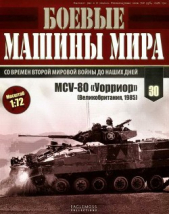Тиски
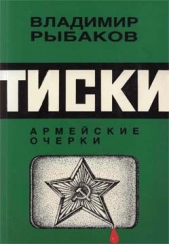
Тиски читать книгу онлайн
Сборник очерков о советской армии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К приказу двести восемьдесят один были приписаны различные дополнения, тайные, чрезвычайно тайные, строго секретные и так далее и тому подобное. К разным дополнениям прибавляли другие дополнения, и так уже десятилетия.
На Дальнем Востоке в шестидесяти километрах от китайской границы существует станция Ледяная. С одной стороны Благовещенск, с другой — Хабаровск. Вокруг сопки и ни живой души. Сама Ледяная лежит в глубокой котловине и в ней расположена ракетная часть. Это не государственная тайна. В Ледяной, в ракетной воинской части произошел случай, после которого кое-кто узнал о существовании не так далеко от Ледяной психиатрического военного госпиталя или вернее военной психотюрьмы. Она до сих пор существует в местечке Бикин.
Фамилия парня была Борковский или Сосновский. Был он сержантом. Был на боевом посту во время тревоги точно по спидометру. Будучи разводящим или помначкаром, разводил наряды по уставу. В общем, придраться начальству было не к чему. Что произошло с ним, никто точно не скажет. Может быть, он стал читать и думать. Может просто стал думать. Может встретился с кем-то. Но этот парень как-то сказал, что если бы СССР начал захватническую войну, то он не послушался бы приказа. Его вызвал к себе лейтенант, затем капитан, после его выслушали замполит, парторг, командир части. Один ему говорил: «Ты чего, спятил, что ли?» И он отвечал: «Разве я говорю неправду?!» Другой предупреждал: «Смотри, схлопочешь». Парень говорил: «Я ведь против своего народа не пошел». Замполит угрожал: «Знаешь, что тебе будет за антисоветскую пропаганду?!» Сержант спрашивал у замполита: «Разве я выразил антигуманную мысль?» Парторг вопрошал: «Ты что такое говоришь, разве может советская власть вести захватнические войны! Одумайся!» Парень в ответ спокойно и уверенно: «Если не может делать такое наша власть, так чего же шарахаться от моих слов. Тогда все в порядке». Командир части в бешенстве от возможных неприятностей орал не своим голосом: «Посажу, гад, контра, сволочь!» А ракетчик кричал ему в ответ: «Пусть мне сперва скажут, почему отказ выполнить приказ захватить чужую страну есть преступление против советской власти?»
Дело было щекотливое. После некоторого раздумья парня объявили по приказу № 281 шизофреником и отправили в психиатрический госпиталь-тюрьму, расположенный у станции Ледяная. Много времени спустя ребята рассказывали мне, что ракетчик выдержал пять лет, а затем, чтобы не сойти с ума, покончил с собой.
Еще один лист, не случайно сорванный с древа жизни.
Уступчик
И что занесло его на австралийский континент? Даже не дуновение ветерка истории, а так, сквознячок. Казалось, жизнь выковыряла изо всех пор сознания контуры капитана Взбышко, но его профиль, мелькнувший в мельбурнской толпе, заставил меня вдруг недоуменно окликнуть его по фамилии. Не переставая похлопывать друг друга по плечам, молчали, словно настоящее было таким никчемным, и только прошлое противоречиво поблескивало в наших глазах грустью вперемежку с яростными искорками.
«У тебя печень в порядке?» — спросил серьезно Взбышко.
Богатый видом ресторан, куда мы вошли, напоминал тоску пустынного улья. Мы сидели, все еще молчали и ждали, пока принесут русскую водку. Мы — два предателя родины. Он с 44 года за дезертирство, я — с 71 за антисоциалистическую пропаганду и бегство на Запад.
Он блекло заговорил о семье и увлеченно, как все здешние сельские жители, об овцах. А прошлое в нас разгоралось все сильнее и сильнее.
Это было на Кавказе, когда немцы рвались к Эльбрусу. Впереди было обыкновенное по своей привычности недумание о смерти, позади в спину стреляли горцы, вызывая путаницу в умах, страх непредвиденного и тупую злобу. Мир словно разбухал от неподвижной духоты, цепко скованный высоким желтым солнцем.
Дурман от разлагающихся трупов невидимыми облаками окутывал две противотанковые батареи, стоящие на предэльбрусных лужайках: одной командовал Взбышко, другой — я.
Приходя к нему в землянку, смотрел на курносую мясистую телефонистку. Спасаясь от запаха, она каждые две минуты обтиралась одеколоном. Если была вода — пили чай. Источник тек в трехстах метрах и обстреливался круглые сутки. Только обложившись трупами, можно было доползти до этого жидкого счастья, — если… убережешься от прямого попадания мины, разрывающей мертвых и живого на шмоточки.
Я завидовал Взбышко, он мог забывать о вони в кольце рук и ног телефонистки.
Неожиданно, вопреки донесениям разведки, немцы нанесли танковый удар по нашим позициям. Острие врезалось в батарею Взбышко. После часового боя, в котором погибла почти вся моя батарея, я, наконец, получил приказ отступить, а орудия Взбышко были раздавлены гусеницами, личный состав разбежался. После я узнал, что он был разжалован в рядовые и отправлен в штрафбат, откуда перебежал к немцам…
Водка быстро теплела, с противностью ее вкуса не гармонировали фужеры, хрусталь. Жестяная кружка в руках непременно сказала бы какую-нибудь прошедшую правду. «Послушай, Я связистку вспомнил, — сказал я, — она была очень приятна молчаливой ласковостью».
«Дрянь она была, — убежденно выдохнул Взбышко. — Замусолила меня тогда, я и размяк. Сидели в землянке, как сейчас помню, а солдаты ведь все знают, вот у них слюнки и текли, какая же тут бдительность. Ты ведь знаешь, в жару умирать особенно некрасиво, может быть, поэтому любовь ее так бешено… (он запнулся) и сияюще цвела, необыкновенная жизнь шла из нее. Она часто смотрела на дерево на уступчике, искалеченное минами, и говорила, что хочет жить под ним со мной в дырявом шалашике, чтобы иногда видеть звезды и дождь… Я себя чувствую мерзким поэтом, когда я думаю о ней… Я ей сказал, что буду любить ее всю жизнь. А тут как раз взбесился телефон. Голос, разрывающий перепонки, орал: „Сволочь, спишь?! Танки! Танки, сука!“ Она пыталась нежным голосом объяснить себе и мне что-то необъяснимое (я понял это потом), но я закричал ей: „Отстань, сука, дрянь! Танки!“ Нет, не помню, но сказал одно слово, пока натягивал портупею, какое-то одно слово. Что было дальше, ты знаешь… Но после боя я вернулся. Немцев не было, и я смог найти ее. Она лежала под тем самым деревом (он вдруг смутился). Я узнал ее по ногам, это было все, что осталось от нее, от ее ласк. Потом штрафбат, ранение, сдача в плен, много всякого было, а вот ноги, месиво ее тела, обугленное дерево на уступчике — не уходило никогда из моей желчи, острой, вызывающей то странную радость, то удивительную боль. И часто, в самые нелепые моменты, вижу любовь, стоящую без жалости над месивом ее тела. Вот и мучаюсь иногда через нее».
Взбышко пьянел быстро, смотрел на обрубок своего мизинца и повторял, что пью я по-русски, по-нашему. А я чувствовал по-детски обиду за что-то большое, превратившееся во хмелю в обиду за девушку из землянки. Когда прощались, он сказал: «Я не тоскую по родине. А ты?»
В его глазах было столько тоски, что я только пожал плечами.
Засада
«Не мотор, а похоронный марш». Водитель Виталий Килеев сказал это без особой горечи — его «Урал» не был сегодня головным. Да и утром он подсчитал, что до дембеля осталось ровно четыре месяца. И прощай тогда Афганистан. Будь ты проклят во веки веков за то, что существуешь, что мы здесь воюем.
Килеев испытывал ненависть к афганцам только в минуты опасности, страха, А в общем, он считал себя уравновешенным человеком, психовал редко, да и жила где-то глубоко в нем вера в судьбу, от которой не уйдешь. Вокруг него просыпался Кундуз, вшивый городишко, вонючий летом, холодающий зимой.
Подчеркнутая вежливость жителей показалась вначале Килееву добрым знаком, мол, боятся они, афганцы, нас, но и уважают за силу, за мощь. Не попрут же они против СССР! Глупо, гибельно, безнадежно.
После первой же засады мнение Килеева изменилось. Бандиты знали с предельной точностью, в какой машине сидит радист, в какой офицер. Капитану Полушкову одна из первых душманских пуль пробила голову. Наповал. Афганский гранатомет выстрелил только один раз — прямым попаданием в грузовик с боеприпасами. Когда прилетел вертолет, все было кончено. Колонна потеряла только убитыми больше отделения. А был ли убит хоть один афганец, Килеев не знал. Он и не думал об этом — впервые в жизни он столкнулся со сладковато-тошнотворным запахом смерти. Он помог прапорщику Селезню перевязать раненную ногу. Тот требовал, чтобы ему дали афганца, любого, и смачно описывал, что он будет с ним делать. Только тогда Килеев вспомнил, что он, оказывается, действительно воюет в Афганистане, чуть не был, вот, убит. И после этой первой засады тело Килеева впервые, с необыкновенной яростью захотело женщину. От этой страсти на минуту закружилась голова.