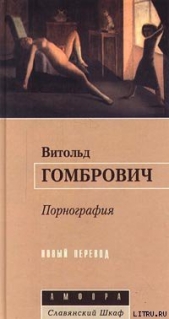Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
[10]
Пятница
В «Ведомостях» письмо Еленьского, в котором он отвечает на заметку Коллектора о публикации моих вещей в «Прёв» [60]. Хотя я полностью согласен с Еленьским, что существует определенное сходство между мною и Пиранделло (проблема деформации), а также Сартром (в «Фердыдурке» можно найти предчувствие нарождающегося экзистенциализма), я предпочел бы, чтобы они, как говорит Коллектор, не имели с моими взглядами слишком много общего. На всякий случай я не хочу ни на кого быть похожим. Мысль — это только один из элементов искусства, хоть случалось, что брали самую заурядную мыслишку вроде «любовь освящает» или «жизнь прекрасна» и высекали из них произведение, блистающее вдохновением и поражающее оригинальностью и силой. Что такое идея, что такое взгляд на мир глазами искусства? Сами по себе они ничто — они могут иметь значение только как следствие того способа, каким были прочувствованы и духовно исчерпаны, той высоты, на которую они смогли подняться, и блеска, льющегося с этой высоты. Произведение искусства — это предмет не одной только мысли, не одного только открытия, это произведение, возникающее из тысячи мелких вдохновений, творение человека, который поселился в своей шахте и добывает из нее все новые и новые минералы.
Но от Сартра и Пиранделло я желал бы отделиться в силу других соображений — соображений общественного, светского свойства. Слишком часто случается в специфических условиях нашего, польского, бытования, что некто с помощью этих «громких фамилий» пытается мною пренебречь и, пыжась Сартром, снисходительно произнести: ах, Гомбрович. А с этим я не могу согласиться в моем дневнике, являющемся частным дневником, в котором речь идет всегда лишь о личных делах, тех делах, в которых я стремлюсь защитить себя как личность и расчистить этой личности место среди людей.
Ах! Друг Еленьский!
Выбраться наконец из этого захолустья, этой прихожей, этого шкафа, стать не польским — то есть заурядным, не так ли? — автором, но явлением, имеющим свой собственный смысл и собственный закон бытия! Пробиться сквозь убийственную второсортность моей среды и наконец осуществиться! Ситуация моя драматична и, я сказал бы, отчаянна: уже долгое время я деликатно внушаю этим умам, обставленным «громкими фамилиями», что и без мировой славы можно что-то значить, если по-настоящему и безусловно оставаться самим собой, но они хотят, чтобы я сначала стал известным, и только потом они занесут меня в свой список и будут ломать надо мной голову. В мнении всех этих рассеянных польских знатоков меня губит как раз то, что существует определенное сходство между мной и мыслями Сартров или Пиранделл. Поэтому считается, что я хочу сказать то же самое, что и они, ломясь в открытые двери, и что если я все-таки говорю что-то другое, то только потому, что я менее способный и менее серьезный, но более путаный; им, например, кажется, что мое ощущение формы вместе с его практическими последствиями — это «ничего нового», и они полагают, что моя критика искусства — это необдуманная гримаса, злоба и каприз; с кичливостью снобов (а сноб кичится не собственной значимостью, а тем, что знаком с кем-то, кто что-то значит) они не станут утруждать себя проверкой, в чем состоит внутренняя логика этих моих реакций, а их лакейская душа приходит в восхищение, когда ей удается представить мою душу как служанку и покорную, но нерадивую подражательницу тех, господских, духов.
Я могу бороться с этим только определяя себя, постоянно, беспрестанно определяя себя. Снова и снова я буду определять себя, пока наконец самый нерасторопный из знатоков не заметит моего присутствия. Мой метод состоит в следующем; показать мою борьбу с людьми за собственную личность и использовать все эти личные раздражения, что возникают между мной и ними, для все более четкого выявления собственного «я».
Вам нужно, чтобы я определил себя по отношению к сартризмам и всей обостренной, раскаленной до белого каления современной мысли?
Нет ничего проще! Я — необостренная мысль, существо средних температур, дух, находящийся в состоянии некоторой расслабленности… Я тот, кто снимает напряжение. Я как аспирин, который, если верить рекламе, снимает слишком сильные судороги.
Какое остается впечатление от чтения моего дневника? Разве не такое, что сандомирская деревенщина зашел на фабрику, где всё крутится и вертится, и по которой он ходит, как по собственному огороду? Вот пышущая жаром печь, в которой готовятся экзистенциализмы, а вот Сартр: из расплавленного свинца он отливает свою свободу-ответственность. Там цех поэзии, где тысячи истекающих седьмым потом рабочих в головокружительном темпе конвейеров и шестеренок режут становящимся все более острым суперэлектромагнитным ножом все более и более твердый материал, а вон — бездонные котлы, в которых варятся идеологии, мировоззрения и веры. Вот жерло католицизма. А там дальше — плавильня марксизма, здесь — молот психоанализа, а вот артезианские колодцы Гегеля и обрабатывающие станки феноменологии, дальше — гидравлические прессы и гальванические ванны сюрреализма, а может, и прагматизма. А колесики на фабрике всё крутятся и крутятся, и в этом своем грохоте и коловращении фабрика всё производит и производит всё более совершенные инструменты, инструменты же служат для улучшения качества продукта и ускорения производственного процесса, а потому все это становится все более и более мощным, сильным, точным. Но я хожу среди этих машин и изделий с задумчивой миной и не выказываю большой заинтересованности, так, как будто я хожу у себя по своему деревенскому саду. Хожу, значит, я по этой фабрике и время от времени пробую то одно, то другое изделие (точно грушу или сливу) и говорю: «Хм… хм… для меня твердовато». Или: «Вот это по мне, дюже богато». Или: «К чертям такое неудобство, слишком жесткое». Или так: «Вот это не плохо, если бы не было таким горячим!»
А рабочие неприязненно смотрят на меня исподлобья. Глянь-ка, среди производителей затесался потребитель!
Суббота
Да! Быть острым, разумным, зрелым, быть «художником», «мыслителем», «стилистом» только до определенной степени и не быть никогда слишком, и именно это «не слишком» превращать в силу, равную всем очень, очень, очень интенсивным силам. Перед лицом гигантских явлений сохранять собственную, человеческую меру. Быть в культуре всего лишь селянином, всего лишь поляком, и даже селянином и поляком быть не чересчур. Быть свободным, но даже и в свободе не терять чувства меры. В этом состоит вся трудность.
Ибо, если бы я вошел в культуру как чистый варвар, абсолютный анархист, совершенный примитив, или идеальный селянин, или классический поляк, вы сразу зааплодировали бы. Вы бы признали, что я неплохой производитель примитива в чистом виде.
Но тогда бы я был точно таким же производителем, как и все они — те, для кого продукт становится важнее их самих. Все, что в плане стиля чисто, — это подделка.
Настоящий бой в культуре (о котором так мало слышно), как мне кажется, идет не между враждебными истинами или между различными стилями жизни. Если кальвинист противопоставляет свое мировоззрение католику, то это — два мировоззрения. Не самой важной представляется и другая антиномия: культура — дикость, знание — незнание, ясность — темнота; конечно, можно бы сказать, что все это — явления, взаимно дополняющие друг друга. Но вот самый важный, наиболее драматический и болезненный спор тот, который ведут в нас два основных стремления: одно, жаждущее формы, вида, дефиниции, и второе — защищающееся от вида, не желающее формы. Человечество так устроено, что постоянно должно определять себя и постоянно уклоняться от собственных дефиниций. Действительность не является чем-то таким, что можно без остатка заключить в форму. Форма не совпадает с сущностью жизни. Но любая мысль, которая хотела бы определить эту недостаточность форм, тоже становится формой и тем самым лишь подтверждает наше стремление к форме.