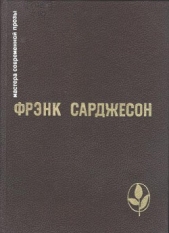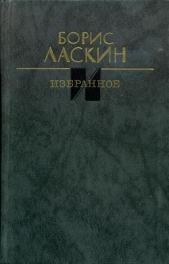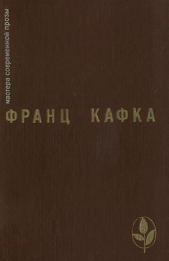Избранное
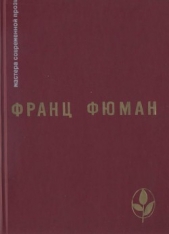
Избранное читать книгу онлайн
В книге широко представлено творчество Франца Фюмана, замечательного мастера прозы ГДР. Здесь собраны его лучшие произведения: рассказы на антифашистскую тему («Эдип-царь» и другие), блестящий философский роман-эссе «Двадцать два дня, или Половина жизни», парафраз античной мифологии, притчи, прослеживающие нравственные каноны человечества («Прометей», «Уста пророка» и другие) и новеллы своеобразного научно-фантастического жанра, осмысляющие «негативные ходы» человеческой цивилизации.
Завершает книгу обработка нижненемецкого средневекового эпоса «Рейнеке-Лис».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы, наверно, очень разочарованы, что не застали Вальтера, — снова донесся до меня его голос, потом Вернер умолк, и даже под натиском собственных горестей я сообразил, что мне позарез необходимо что-то сказать: «да» или «нет», лучше всего то и другое сразу. Так я и сделал.
— Да нет, — обронил я, все еще живо представляя себе внезапный удар кулака. Я сделал сильное ударение на «нет» и, чуть спокойнее, на «да», взгляд мой при этом был устремлен в сторону, туда, где синей змеей вонзалось в сталь сверло: металл режет металл, — а в голове почему-то мелькнуло, что не худо бы надеть защитные очки. Пронзительный визг резко оборвался, Вернер кашлянул и повторил, что в моей заметке все правильно.
Из газеты ему, мол, все стало по-настоящему понятно. Тем временем сверло вышло из отверстия, заготовку освободили из зажима, передвинули и закрепили снова. А Вернер продолжал: с политикой у него и впрямь не клеилось, в этом я совершенно прав…
В ту же секунду моя досада обернулась гордостью, а стыд — разочарованием. Вот какие у нас рабочие, вот какие читатели! — подумал я. Наша литература может гордиться: такая крохотная заметка, а как действует! Острейшая критика — и все равно воспринимается как помощь. Ну разве это не замечательно?!
— Ничего, придет время, и с политикой справишься, — утешил я.
Вернер расхохотался, с облегчением, от всего сердца, добродушно, у него точно гора с плеч свалилась. Я тоже засмеялся, страха как не бывало, и в эту минуту полнейшей уверенности мне вдруг стало жаль человека с рюкзаком, который в поезде воплощал для меня настоящую жизнь, а на деле явно был ничтожным обывателем, привязанным к своему домику и садовому участку. Кой черт в меня тогда вселился? Что на меня нашло? Разумеется, я правильно сделал, приехав сюда: здесь, и только здесь реальный мир, здесь, и только здесь бурлит подлинная, правдивая, увлекательная жизнь, здесь проходит та самая дорога — не поленись нагнуться, и у тебя в руках сюжет, который обязательно пригодится, да еще как! Сдается мне, что в тот миг я воочию узрел солидный том рассказов и даже успел придумать ему название.
— Наверняка справишься! — Я уже не утешал, но подбадривал Вернера.
Вот тут-то, словно я загодя сплетал будущую историю и одновременно проверял политическую зоркость Вернера, мне взбрело в голову намекнуть перед расставанием, что при всей тяжести его проступка я больше не корю его за то, о чем мне рассказали в дирекции и что я резко осудил в заметке, — словом, я шутливо намекнул на место того происшествия.
Вернер опять стушевался и возразил, что дело было не вполне так. Я удивленно переспросил и из уклончивого ответа бывшего бригадира понял, что ситуация была весьма отлична от той, какую мне обрисовал товарищ из дирекции. «Вместо митинга солидарности — в столовую» — вот к чему сводилась официальная версия. У бригадира же выходило иначе. По окончании дневной смены возникла необходимость остаться еще и на ночную; раз так, надо непременно перекусить, а столовая с минуты на минуту закроется, поэтому обеденный перерыв и совпал по времени с митингом. У людей в мыслях не было пренебречь митингом, это он оплошал: не о производстве надо было думать, а о текущем моменте, теперь-то он понимает.
Мне стало не по себе.
— Зачем же назначили ночную смену? — поинтересовался я.
Вернер объяснил, что речь шла не то чтобы о категорическом предписании, просто понадобилось срочно устранить кое-какие неполадки; так считал не он один, мастер его поддержал. Нужно было снять один из узлов агрегата — как показал опыт, он очень быстро изнашивался — и заменить новым, более износоустойчивым. Конечно, это можно было сделать и по месту эксплуатации, только ведь за рубежом издержки неизмеримо возрастут, а глядишь, того хуже — замена произойдет только после поломки агрегата.
Но ведь это полностью меняет дело, подумал я и спросил (разговор наш продолжался, пожалуй, уже минут пять), нельзя ли было заняться этим на другой день. Вернер ответил отрицательно, сославшись на сроки отгрузки агрегата, а на вопрос, знала ли об этом дирекция, многозначительно вздохнул.
Я почувствовал, что по уши завяз в этой истории, и решил распутать ее до конца. Если Вернер прав, а его рассказ говорит в пользу этого, то ему не в чем себя упрекнуть и согласие с критикой продиктовано избытком смирения, может, даже цинизмом, и моя статья только лишний раз укрепила его в такой позиции; не исключено, что согласие продиктовано ложным, чуть ли не извращенным пониманием значимости политических мероприятий, и не в последнюю очередь виной тому моя статья. Так или иначе, мои строки нанесли вред, я обязан объясниться с Вернером и заодно докопаться до причин инцидента.
— Выкладывай-ка все с самого начала, — попросил я, но Вернер только пожал плечами: мол, рассказывать больше нечего.
Внешне он был спокоен, но теперь я уже почувствовал в нем уныние, по крайней мере так я истолковал изменившийся тон, ведь говорил он недружелюбно.
— Но мне все же думается, вы были правы, — наседал я, не обращая внимания на предостережения внутреннего голоса, который призывал, меня остановиться, — с заменой узла все было как надо, дирекция обязана признать… или, может, у вас не было случая изложить им ситуацию?
Вернер опять помял кепчонку, опять вздохнул, с тем же смущенным пренебрежением махнул рукой и наконец, уже явно не в силах сдержаться, сказал:
— Если вы намерены снова писать об этом, ступайте лучше к начальству, пусть они вам объясняют. — Голос его звучал почти грубо. — Политикане мое дело…
Он оборвал фразу, но я догадался, что он имел в виду: вы же, мол, сами к такому выводу пришли, в статье-то!
От внезапной грубости я растерялся, резкий обрыв разговора испугал меня, мелькнула мысль, что написанное будет и впредь с конфузом оборачиваться против меня, — все это перекрыло поток просившихся на язык вопросов: вправе ли он своей властью принять решение о переоснастке; на каком уровне, собственно, принимаются подобные решения; какие инстанции они проходят — в том числе высшие и наивысшие — и каков механизм движения по этой пирамиде распределения заданий; по каким вопросам нужно просить, по каким — ходатайствовать, требовать, указывать, приказывать; далее, нет ли в этой истории противоречия между совестью и соображениями выгоды, дальновидностью и близорукостью, ответственностью и инертностью, и если да, то насколько оно глубокое, и — все эти мысли впервые пришли мне на ум со столь ошеломляющей естественностью — не попал ли тут человек-одиночка как бы между двух огней, в точку пересечения двух разных интересов, и не нарочно ли его туда спровадили, и где находятся средоточия подобных тенденций вообще и этой в частности — в сфере производства или выше, может быть, даже в экономике как таковой, в кадровой политике, в теории, в прагматике, в сфере руководства или исполнения? И в довершение всего бессвязные, почти абсурдно примитивные вопросы типа: что там был за митинг, о каких агрегатах шла речь — турбинах? мышеловках? холодильниках? моторах? Я ведь ничего не знал, а следовало бы выяснить и это, и еще в сто раз больше, прежде чем браться за перо, но теперь было не до расспросов. Если я не склонен еще больше укрепить бригадира в его мнении, если хочу по крайней мере добиться от него снисхождения к моей опрометчивости, если не желаю, чтобы эта нечаянная встреча обернулась непоправимым, то я просто обязан сию же минуту загладить свой промах.
— Моя статья некомпетентна, не следовало мне ее писать! — сказал я и тут же испугался резкости этих слов, хотя исходили они из моих собственных уст.
Я запнулся, хотел начать снова, но Вернер уже ответил на вопрос вопросом, крыть который мне было нечем:
— Вот как?
Два словечка, два слога, короткие, отрывистые, — они вернули меня к действительности. Мне почудилась в них неприкрытая насмешка, точно ушат холодной воды. А когда он опять, как раньше, отмахнулся, я спросил себя: что тебе здесь надо? Бригадир поневоле считает меня писакой, который — что ни говори! — одной веревочкой связан с дирекцией, действия которой сам Вернер явно не одобрял, и послал меня сюда тот краснобай, и вообще вся заметка написана под его диктовку… Никакой другой удар не мог бы унизить меня сильнее, к тому же я чувствовал, что все это близко к истине.