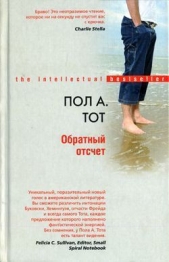Клеменс
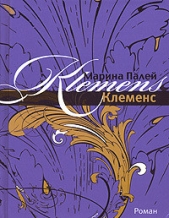
Клеменс читать книгу онлайн
Правомерно ли назвать этот роман гомоэротическим? Да - в той же степени, в какой "Лолиту" в свое время именовали романом порнографическим. "Klemens" захватывает предельной напряженностью любви и ненависти, мастерским языком, щедрой палитрой стиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он набрал номер… Это был номер младшегобрата Клеменса, по имени
Эберхард, – Клеменс, уезжая, дал этот номер, сказав, что своего адреса не знает, но всегда можно через младшего брата связаться – тем более Эберхард работает дома (кропает то ли диплом, то ли диссертацию). А если этого проклятого Эберхарда нет дома?! То есть если именно Эберхард поехал на лето в Африку? Ну, ситуация: стало быть, Клеменс-то в Берлине, а вот Эберхард – черт знает где, а попробуй найти Клеменса по этим справочникам – он, в своей солдатской шинельке, поди ж ты, и не зарегистрирован нигде!!. – вот такие мысли терзали его нутро, пока длинные гудки не завершились наконец щелчком, и тут из трубки полилась электронная музычка – кажется, одна из партит Баха… Никогда еще он, музыкальный каждой капелькой крови, не питал отвращение к Баху так сильно, что готов был всадить в аппарат кулаком, но надо было дождаться проклятого писка-сигнала, чтобы "оставить свое сообщение"… А музычка все играла… а мелочь кончалась… он опускал монету за монетой, дополнительно развращая прожорливый телефон, прикинувшийся цивилизованным господином, а обернувшийся вдруг уличной шарманкой, цыганкой, заманкой – ну, дьявол! просил я, что ли, этот концерт?! что за вымогательство?! Но это была только первая часть культурной программы, ибо после окончания музычки назидательный мужской голос взялся читать стихи. Что было уже нестерпимо…
Возможно, это были очень хорошие стихи, но интонация являлась таковой, что вирши эти воспринимались как нравоучительные, выведенные заковыристо-головоломной готикой, надписи по фасадам жилых строений в фольварках (надписи, которые он в изобилии видел на марципановых открытках), что-то вроде: "De Tied vergait un de Winde weiht, jede Bloum verblait, use Ziel de Ewigkeit"^21. Наконец голос закончил – и раздался долгожданный писк… Но тут, одновременно с этим, закончилась мелочь.
Он зашел парк – и направился ко дворцу: если там музей, разменять в кассе музея.
Он благополучно разменял деньги, и тут служащий (с лицом кайзера), видимо, пользуясь отсутствием посетителей, вышел из-за кассы и, значительный, словно готовя себя для получения верительных грамот, двинулся через длинный вестибюль к выходу.
У самого выхода, сбоку, стояли три больших одинаковых деревянных ящика. Служащий откинул крышку одного, стоящего ближе к дверям, – и человек, который только что разменял деньги и брел сзади, застыл.
В ящике, аккуратными штабелями – от дна и до самого верха, – плотно лежали войлочные тапки. Каждая пара была с биркой на левом тапке – и каждый левый тапок, с биркой, был аккуратно вдет в правый, без бирки. Пары были разнообразных размеров – много больших, мужских, еще больше средних, явно женских, попадались маленькие, детские и даже крошечные, младенческие.
Тот, кто делал вид, что читает объявления, обмер. Он, для кого это было первое утро в Германии, немедленно увидел рядом, на полу, пеструю горку из черных, каштановых, рыжих кос, а чуть поодаль, ближе к углу, другую, состоящую из съемных челюстей (в ней посверкивали отдельно вырванные золотые коронки), а еще дальше, в самом углу, тускло сияла горка из золотых и серебряных изделий с камушками – некоторые отдельно, а некоторые – вместе с отрезанными пальцами; по сути, это и была горка трупных пальцев – и данный дизайн значительно отличался от такового в витрине виденного только вчера ювелирного магазина, где тоже присутствовали кисти рук и даже отдельно взятые пальцы. И тут у него в ушах зазвучал голос: вехайю шамейха ашер аль-рошха нехошет вехаарец ашер-тахтейха барзель: итен яхве эт-метар арцеха авак веэфер мин-хашамайм иред алейха ад хашмадха: вехайта мешуга мимарэ ейнеха ашер тирэ^22
…Когда он очнулся, был уже полдень. Хорошо, скамейка стояла в тени вяза, ему не напекло голову – он лежал, привалившись к ее спинке в относительно пристойной позе вовсе не спящего, а лишь прикорнувшего человека – и не привлек взглядов ни бдительных горожан, ни полиции, но взмок, как мышь.
Сначала он зашел в кафе, где выпил много апельсинового сока – хотелось чего-то холодного и кислого, вдобавок еще наменял мелочи, потом направился к тому же уличному телефону.
Та же музыкально-поэтическая программа.
На автоответчик он ничего не записал. А что запишешь? Звонит Майк, телефона у меня нет, но будьте дома – на случай, если я позвоню еще, – так, что ли?
Он побрел в парк. Красоту парка Сан-Суси он уже, конечно, не замечал.
Равно как и течение времени.
…Возле ворот противоположной стороны – получается, слепо пройдя весь парк из конца в конец, – он встретил странную делегацию. Он хотел проскочить, но не успел – они, идя ему прямо навстречу, уже входили в маленькую, увитую плющом, лирическую калитку – самую отдаленную от главного входа – чугунную, с литой орнаментальной решеткой, сплошь в крупных цветах, извивах лиан и сказочных птицах – калитку, затерянную в роскошной тени цветущего, источающего сказочный аромат жасмина, – они входили, и он должен был ждать, пока они пройдут все, – а они шли и шли, парами, держась за руки, – коренастый и узкоглазый даун без шеи, из его растрескавшихся в кровь губ торчал толстый язык; с ним, за ручку, семенила казавшаяся очень старой карлица, которая улыбалась серыми гноящимися деснами; за ними хромали вразнобой два, видимо, брата, с белыми, полностью расфокусированными глазами; за ними, подволакивая ногу и извиваясь всем телом, шло существо, видимо, мужского пола, с отвислой губой, храня на лице врожденное выражение экстатического восторга; с ним рядом шла большая широкобедрая отроковица – с длинными ногами и поджатыми под грудью крошечными, как у кенгуру, ручками; за ними шла девушка без пары – и без рук, а только словно с плавничками, свисающими кожицей из-под лямок модной цветастой маечки; далее шли два бородатых существа с огромными вывороченными ластообразными стопами: у одного наружу, у другого внутрь; и тот, который загребал внутрь, видимо, чувствовал ответственность за партнера, которому это невольное чарличаплинство придавало какую-то ложную легкомысленность; далее шел человек с огромной головой – но на ней почти не было лица, лицо словно скомкали, словно за ненужностью, то есть пустотелый лоб оттеснил все остальное к самому подбородку; с ним под руку шла дама, у которой одна часть лица была фиолетовой, раздутой, крупнопузырчатой – и эта ее особенность заканчивалась строго на оси симметрии, вторая часть, обращенная как раз к партнеру, была жизнерадостной, синеглазой, с длинными ресницами и родинкой на высокой скуле – они шли и шли, и, казалось, им не было конца: то ли Природа-мачеха глумливо демонстрировала неистощимость своих шалостей, то ли администратор специализированного интерната вел калек на оздоровительно-познавательную экскурсию.
…Когда по телефону раздался первый баховский аккорд, он с яростью повесил трубку, не имея, собственно говоря, никаких альтернативных планов.
Можно было напиться. Но что-то содержалось в самой ситуации – что-то дающее надежду. Он пока не мог сформулировать, что именно.
Перекусив в ближайшем бистро, он вернулся в "гастхауз". Там начал было возиться со своими бумажками, но рухнул в постель и, не раздеваясь, уснул.
Проснулся он от мерзкого звука. На ветке, которую он не видел, в вечерних сумерках сидела ворона, задавая самой себе экзистенциальный вопрос: варррум?!. варррум?!. А кому же еще задавать такого рода вопросы?
Как пишут в книгах, "его лицо было мокрым от слез". Если бы! Во сне он не плакал – ни в этом, ни в каком другом. Он не умел плакать во сне, будто его подсознание, как индеец, никогда не встречавший белолицых, не знало такой привычки. Он иногда плакал наяву, потихоньку, – испорченный условным рефлексом, перенятым от людей европейской цивилизации.
А сердце билось, как бык в стену скотобойни, – бык, получивший удар током, но, видимо, недостаточный, чтобы уже не биться, – бык, по недосмотру оператора оглушенный не полностью. От тоскливого ужаса сводило бедренные мышцы. Ему показали что-то страшное, чего он не помнил в деталях… "Раз это мне уже показали, значит, так не будет, – успокаивал он себя, – значит, я уже прожил такой вариант судьбы – значит, наяву не будет…" И тот, другой, кто успокаивал, знал, что врет, – и знал, что тот, кого успокаивают, знает, что успокаивающий врет.