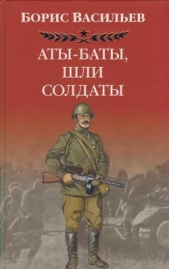Солдаты

Солдаты читать книгу онлайн
Из Архива-Музея Ивана Сергеевича Шмелёва, хранимого Ю. А. Кутыриной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Поручик Бураев Павел… – кому-то сказал полковник, кто его спрашивал.
– Мм… а, в четвертом, кажется, ряду… в углу, – кто-то сказал нетвердо, выкинув туда градусник.
Но он уже узнал ее, белокурую голову, единственную из всех – темных, седых и светлых.
Маленькой, точно детской, и такой одинокой, жалобной – показалась она полковнику. Он задохнулся от жалости и боли, не совладал с волнением. Она была вдавлена в подушку там, глубоко, в углу. Он шел подтянувшись, твердо, страшась зацепить за койки, за желтую чью-то ногу… – дошел, и искал глаза.
– …Морфий… – шепнула сестра сзади.
Он опустился на табурет, кем-то ему подставленный, и глядел, задавив дыханье, боясь дышать.
Павлик – показалось полковнику – сладко и крепко спал. Смякшие, в блеклом налете, губы выпячивались знакомо, детски, как будто тянулись поцелуем; но что-то в них было новое?… что-то в них было… – горькое удивление?… боль?… Что-то таилось в них, в тоненькой, к краю, складке, в пленочке уголка, где муха. Полковник спугнул муху движеньем пальца, но она села на щеку, и он не решался больше. Незагоравшее никогда лицо, стало маленьким, было теперь лимонного цвета с отблеском, словно натерто воском. Полковник с болью подумал – желчь?!… Видел подавшиеся виски, с влипшими волосками, темные брови, кинутые враскось, родные… завалившиеся под лоб глаза, обведенные черной тенью, плотно прижатые ресницы, в капельках… Понял, что пот это на лице – не отблеск. «Морфий» – осталось в уме полковника [203] странным страшным звуком, вне жизненным. Он повторял про себя, силясь понять его, – мо… рфий… мор… фий?… – с ужасом увидал, что задвигают его ширмами, от других, как там, – и понял, что умирает Павлик.
Он поглядел на сестру, взявшую руку Павлика, словно спросил – зачем? Она повела глазами, меряя Павлика, и шепнула полковнику, как бы в ответ на взгляд: «в живот, осколком». Он в страхе взглянул туда, в закрытое одеялом что-то и взглядом спросил ее – «что же?…» Она взглядом ему сказала. Он согнулся на табурете – и так сидел. Через койку – видно было в неплотную створку ширм – накрыли желтой простыней спавшего крепко капитана, спавшего – показалось полковнику, и потом понесли куда-то. А Павлик все крепко спал.
Полковник видел все ту же, знакомую полоску – рубчик у подбородка, – в детстве рассек подковой его жеребчик, – теперь почему-то темную. Эта полоска детства пронзила ему сердце, и он, всматриваясь в сестру, сказал: «а как же… жизнь?» Но она не ответила. Он согнулся совсем на табурете, спрашивал руку Павлика, серое одеяло, на котором сидели мухи: «а как же… жизнь?» Недавно было… когда жеребчик?… Да как же… жизнь?!…
Полковник не мог осмыслить. Недавно все было ясно: родина, долг, присяга, честь, доблесть, надо, жизнь требует, жизнь велит. Жизнь… Ну, а жизнь-то как же, его-то жизнь, эта вот, на подушке, с рубчиком?… Там, в садах, при прощаньи, в солнце, в пригнанной ловко форме, казалось ему всё ясным. Куда-то теперь [204] расплылось, осталось там, за дрожащими ширмами. Было же только детство, вот этот рубчик… а где же – всё?…
Показалось полковнику, что Павлик сейчас проснется.
Тело чуть повело, голова провалилась глубже, рука поползла по одеялу, ощупывая с дрожью: множество мелких капель, похожих на сероватый бисер, выступило на лбу, сливалось, слилось – и крупная капля слезой покатилась к глазу и замерла. Полковник услышал стон, грудь поднялась под одеялом, что-то заклокотало там… «Агония»… – сказала тихо сестра, щупая руку, словно ловя в ней что-то. Полковник слышал, понять не мог. Но понял сердцем. Он наклонился ближе, ловя дыханье.
– Па… ша?… – позвал он вздохом, – Павлик…
Уходил Павлик, но шопот отца учуял: повел губами, губами потянулся, – показалось полковнику. И сестре тоже показалось. Полковник взял угасающую руку и пожал тихо-тихо. Шопотом, из нутра, позвал:
– Пашута… Па-ша…
Этим шопотом из нутра, голосом общей крови, вызвал полковник сына из темного провала: чуть открылись немеющие глаза из ям, и эти глаза, родные, узнал полковник. И они узнали. Серцем это понял полковник. И неясно, едва касаясь, пожал холодеющую руку. И его руке отозвался Павлик – чуть слышно отозвался. Сердцем это узнал полковник.
Когда всё кончилось, он перекрестил усопшего и поцеловал его в лоб благоговейно. Кто-то шептал ему: [205] «успокойтесь… милый, успокойтесь…»
Полковник перекрестился и твердо ответил: «я спокоен».
Он был спокоен. Не было уже никаких вопросов, – «а как же – жизнь?» Жизнь заключилась смертью.
Он похоронил сына в монастыре, поставил крест, дал денег и наказал монахиням убирать цветами. Распоряжался обдуманно и точно. Не плакал даже наедине, в доме отставного генерала, дальнего родственника, у которого остановился. Когда ехал с кладбища, вдруг вспомнил, что Павлик умер в день ангела своего, Петра и Павла, – осветилось и потеплело в сердце. В нем осветилось…
И только глубокой ночью, разбирая оставшиеся вещи, увидев зеркальце на алом шелке, полковник дрогнул и зарыдал. Прыгало в руке зеркальце, и прыгало в нем трясущееся лицо полковника. Никто не видел. «Твердо, твердо», – приказал сам себе полковник, и зеркальце перестало прыгать. И увидел струившееся сквозь слезы золотцем – взглянешь – вспомнишь». На мерцающей мути зеркальца не себя увидал полковник, а сына, в жизни. Увидал все, что помнилось, а помнилось ему все, что было. Все увидал, услышал: от первого лепета из колыбели, до последнего оклика за пылью – «папа… ты не скуча-ай!…» – последнего, слова от живого. И вспомнил – и ошибку, и черную стрелку, наяву и во сне казавшую все одно, – без четверги 7, – так и скончался Павлик, – и сон, прокусивший сердце. Все осветилось в нем, все показалось не случайным, все показалось связанным: какие-то нити протянулись сюда – оттуда. Ушел, не умер, не кончился. Есть между ними Кто-то, Кто указует сердцу, [206] объемлет все, вяжет живых и мертвых, Собою сливает их, вяжет не здешним, – тем. И укрепился духом:
«В Лоне Его мы свидимся».
Он привел в порядок оставшиеся вещи, запаковал и отослал в «Яблонево», домой. Оставил себе только зеркальце, у сердца спрятал. Оставил письма невесты и карточку, где они были сняты, и выехал в Калугу – решил передать лично. Знал – тяжело это будет, но не мог поступить иначе: так бы распорядился Паша, если бы мог распорядиться.
В день отъезда ему показали сообщение штаба, где он прочитал строчки о сводной роте, славной ее атаке, о выводе из опасного положения Н-ой дивизии, взято девять пулеметов, четыреста пленных. Этой «сводной», – сказали ему – командовал его сын, Бураев Павел, принял ее в бою, был дважды ранен – в плечо и живот, осколком, приказал солдатам нести себя в атаку, не оставил строя до конца боя. Полковник перекрестился. Думал: «Жизнь… за других… для других. В Лоне Его мы свидимся». [207]
ДУШНЫЙ ДЕНЬ
В Калугу он приехал глубокой ночью, – чуть светало.
На станции, в душном зале, где жарко жужжали мухи, он одиноко курил, пил теплую воду из графина и прохаживался до утра. Выходил на подъезд, смотрел на пустую площадь, на березы, уже сыпавшие журчливым щебетом просыпавшихся чижей, на зеленовато-розовое небо. Спящий трактир напротив, голубеющий на заре, дышал черными пятнами раскрытых окон, с непогашенной в глубине лампой. Полковник широко глотал воздух, но душная ночь пахла сухою пылью и остывавшим камнем. Вдоль желтого палисадника валялись человеческие тела, белея на рассвете онучами и мешками… В тоске, прислушивался полковник, не дребезжит ли извозчик…
Но куда же ехать?… Рано приехать – неудобно, она еще спит, пожалуй… Тревожить неудобно. Он ее почти знал – по письмам, она была ему нечужая; но беспокоить так рано, чтобы… Конечно, неудобно.
Он обошел дозором и осмотрел весь вокзал, до водонапорной башни, – на вокзале часто бывал Паша, отсюда и на войну вышел, – перечитал все приказы и объявления, и, наконец, дождался: загромыхало у [208] подъезда. Полковник вышел, – но это баба привезла на дрожинах решета с ягодами, – малиной пахло. Потом затрубил рожок, и продвинулся задом черный сипящий паровоз, со сцепщиком наотлете. Потом подошел шумный эшелон, с уже пробудившимися гармоньями и балалайками, с лошадьми. Вокзал проснулся. Молодое офицерство – все больше прапорщики, в новых ремнях и крагах, – щеголевато-отчетливо отдавало честь сумрачному полковнику, с крепом на рукаве тыловой шинели, требовало чаю, «покрепче, и с лимоном!» – и наскоро ело вчерашние пирожки, разрывая их надвое, лихо расставив ноги. Полковник искал между ними похожего на Пашу… и не нашел. Проводил грустной лаской шумливый поезд и, наконец, дождался: задребезжал извозчик. Но было только – четверть седьмого.