Парамон и Аполлинария
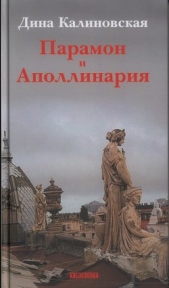
Парамон и Аполлинария читать книгу онлайн
Дину Калиновскую (1934–2008), российскую писательницу и драматурга, многие знают по знаменитому роману «О суббота!» («Текст», 2007). Она писала удивительные рассказы. «Один другого лучше, — отзывался о них Валентин Катаев. — Язык образный, емкий, точный, местами заставляющий вспоминать Лескова, а также тонкий, ненавязчивый юмор, пронизывающий все ее рассказы». В книгу вошли произведения Дины Калиновской 1970-1980-х годов, большая часть которых ранее не публиковалась: рассказы и монопьеса «Баллада о безрассудстве», совместно с В. Высоцким и С. Говорухиным позднее переработанная в киносценарий. Составитель и автор послесловия к книге — Л. Абрамова, актриса, хранитель архива Д. Калиновской.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зажилила, Маруська, самым бессовестным образом, это факт и святая правда! — Тетя Яся снисходительно жалела младшую сестру за врожденные несовершенства. — Что, я прошу ее? Нет, я уже отчаялась в твоей совести. Но одного я хочу — это чтобы ты о себе правильно понимала. Все, больше мне ничего от тебя не надо!
Если тетя Яся хотела что-либо получить, отвязаться от нее не было никакой возможности. Пусть через годы, но она своего добивалась. К салфеточке с синей розой из Марусиного приданого она привязалась душой, и теперь, сложенная вчетверо, салфеточка лежала в шкафу тети Яси. К пепельнице из дедушкиных вещей в виде бронзового ушата на гранитном постаменте она привязалась сердцем, и теперь дедушкина пепельница стояла у нее на крыле газовой плиты, туда тетя Яся складывала обгорелые спички. Пришла очередь фаянсовой бабушкиной чашки. Маруся боролась из последних сил.
— Серафима ее любит, — шептала она. — Серафима ее ни за что не отдаст.
— Интересно! Это чашка нашего детства, при чем тут Серафима? Не впутывай девочку! — шептала тетя Яся.
— Можешь себе представить, она помнит наш дом! — шептала Маруся.
— А Бонапарта она не помнит? — шепотом спросила тетка.
Серафима не шевелилась, старалась почти не дышать.
— Я тоже ей, в сущности, не верю… — Маруся зашептала еще тише: — Я ей не верю принципиально! Она и так о себе много понимает! Сколько мне было лет, когда бабушка взяла меня с собой в Варшаву? Лет десять? Так слушай, она помнит, как бабушка была одета, какие были обои в доме дяди Эльи. Я не помню, а она помнит…
— Но если ты не помнишь, значит, она тебя просто морочит!.. — захихикала тетя Яся.
— Она мне рассказывает, и я тут же вспоминаю! Она не помнит чашек? Помнит, еще как!.. — шептала Маруся.
Конечно, Серафима помнила. Их было полдюжины. Толстые фаянсовые, одинаковые, но каждая со своей многоцветной старательной картинкой на дне: корова с теленочком во хлеву, лошадь с жеребеночком в чистом поле, коза с козлятами щиплют куст, гусыня с гусятами на пруду, курица с цыплятами в огороде и, наконец, единственная оставшаяся — свинья с приплодом в идиллически грязной луже.
Лето, веранду, плетеную мебель помнила она почти отчетливо. Сквозь листья старого ореха солнце заливало выскобленный пол и скатерть на столе с вышивкой, изображающей цветущий камыш. Это был дом, где родилась Серафимина бабушка, где потом родила четверых детей, из которых Маруся была младшим ребенком. И прабабушку, чьи инициалы N.G. были вышиты на скатерти и выгравированы на семейном столовом серебре, помнила Серафима, и прабабушку, уже не встающую с постели. Рядом с ней всегда пребывал белый детский конь на колесиках, и прабабушка N.G. катала его, положив пергаментную руку ему на спину, туда-сюда, себя, очевидно, при этом уже не помня.
И Марусину поездку с прабабушкой, еще не старой, степенной дамой, помнила Серафима. Она подробно описывала шляпу, и блузку, и камею прабабушки, и дом в Варшаве, где они жили, пока варшавский гравер монограммировал семейное столовое серебро. Серафима описывала обитую дубом прихожую без окна, зеленый стеклянный абажур и белого кота на стуле в доме незнакомого ей дяди Эльи. Серафима описывала витую лестницу на второй этаж, круглое чердачное окно в сводчатой комнате, куда их поместили — десятилетнюю Марусю и ее бабушку N.G., и самое комнату, обитую полосатым ситцем, и костел, видный из окна, и дом ксендза, на крыльце которого стояли длинные ящики с геранью.
— Хорошо, — говорила Маруся, когда Серафима упрямо повторяла ей подробности: Маруся терялась, пугаясь необъяснимого. — Хорошо, какая же полоска была на обоях?
— Полоска желтая, полоска серая, полоска из розочек! — торжественно отвечала Серафима и глядела в желтые материнские глаза, глаза внимательной тигрицы.
Из столового серебра остались только две чайных ложки. Марусиной частью наследства однажды, еще подростком, распорядился Мурзинька, никого не спросив, эта история считалась мрачной. У другой части, тети-Ясиной, история была романтическая, требующая для завершения чьей-то храбрости и властности, в общем — мужского вмешательства. Где все это было взять в их кроткой семье?!
— Ах, дурак! — восклицала по временам Маруся, она ругала погибшего в Севастополе тети-Ясиного мужа. — Все у них не продумано! — ругала она их вместе, собственного мужа и зятя. И сейчас, через двенадцать лет после войны, она продолжала довоспитывать погибших мужчин семьи. — Ты помнишь, — говорила она тете Ясе, — как они нас не пускали? — Имелось в виду, что мужья отговаривали их эвакуироваться. — «Через две недели все закончится, вы только намучаетесь с детьми, как мокрые курицы!» Помнишь, что они нам устроили, наши умники? «Куда? Зачем? Глупость!» Яська, что бы с нами всеми было, если бы не я? То есть если бы не военком!..
— Погибли бы в гетто, — говорила тетя Яся. — Не сомневайся!
— В том-то и дело! Я вошла в кабинет с Мурзинькой на руках, а Симка тащилась рядом, я влезла в кабинет вместе с какими-то военными, военком только взглянул на меня и сразу все понял. Он сказал: «Уезжайте, мадам!» Он даже ни о чем не спросил, а сразу выдал талоны. Я тут же ему поверила. — Маруся всегда больше верила чужим, чем своим.
Итак, муж тети Яси не разрешил тете Ясе тащить в эвакуацию бесполезный багаж. Столовое серебро с монограммами от варшавского мастера — «Только чтобы была спокойна!» — зарыл в чулане их довоенной полуподвальной квартиры с грядками маргариток в палисаднике под окнами, которые разводил сам. Лучше бы он зарыл в маргаритках, тогда однажды ночью можно было бы разрыть…
Там были новые жильцы. А тетя Яся, вернувшись из Ташкента, оказалась на другом конце города в комнате с видом на глухой забор, но зато с тайной зарытого клада в сердце. Кто-то, кому можно было бы довериться, должен был однажды, а лучше в праздник, спокойно войти в их довоенный подвал и вежливо, но непререкаемо заявить, что намерен немедленно разрыть пол в чулане с целью, которая нынешних хозяев не касается. Такого человека не было. За такого человека, пусть бы он только появился, следовало выдать замуж Нелю.
— Просыпайся, засоня, давай чай пить! — позвала Маруся, заметив, что Серафима не спит. — Просыпайся, скоро придут они! (То есть маляры.) Возьми письмо на столе, там для тебя опять есть твои глупости! (То есть письмо от Мурзиньки с дурацкими фамилиями.)
— А, здрасьте вам! — сказала тетя Яся, когда Серафима наконец открыла глаза. — Какие новости?
Серафима уселась по-турецки на диване — проснулась окончательно. Солнце уже повернуло на эту сторону улицы, большими квадратами расчертило предремонтный бедлам. Ободранные стены, звонко освещенные, пятнистые, в своей обнаженной непрезентабельности странно радовали, как вызов, как протест перед любым камуфляжем.
— Мама! — сказала Серафима. — Вас не учили в гимназии, как звали Вяземского, друга Пушкина? А?
— Князя Вяземского? — переспросила Маруся. — Не помню. Кажется, Петр Андреевич… Нет. Не уверена.
— Сойти с ума! — сказала Серафима.
— В чем дело? — спросила Маруся.
— Мне Пушкин приснился!
— У тебя в ванной с вечера что-то мокнет, стирать будет Пушкин? — ответила Маруся.
— И папа, — сказала Серафима. — Папа тоже приснился.
— Это он может — сниться!.. — отозвалась Маруся.
Команда сторожевого катера «Сарыч» потрудилась на этот раз неплохо. Фамилии были распределены по группам. Фамилии были пиратские: Пиастров, Чернофлагов, Петлянареев. Фамилии были ихтиологические: Акулькин, Тюлькин и Бычков-Камбалакчи. Фамилии были котельные: Варивода и Гонипарко — в общем, ощущался размах.
«Мне здесь хорошо, — писал Мурзинька. — Кормят хорошо, и спать хорошо тоже».
Это был юмор. Так он начинал все свои письма из детского дома — Марусе было не прокормить двоих детей в первые послевоенные годы.
Маруся и тетя Яся пили чай, устроившись вполне уютно среди ремонтного разгрома — крахмальная салфетка поверх газет, которыми был укрыт перед побелкой стол, фарфор и серебро, печенье и варенье. Тетя Яся задумчиво вертела в руке одну из последних двух ложечек с монограммами от варшавского гравера, она держала ее двумя пальцами за самую тонкую часть черенка, и монограмма поворачивалась то к ней, то к Марусе. Тетя Яся любовалась своей игрой, и Серафима с Марусей понимающе переглянулись — пришла пора к приходу тети Яси прятать и чайные ложки.


























