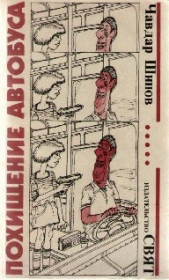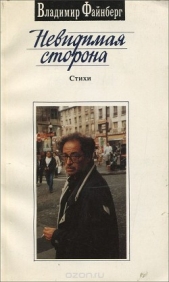Здесь и теперь

Здесь и теперь читать книгу онлайн
Автор определил трилогию как «опыт овладения сверхчувственным восприятием мира». И именно этот опыт стал для В. Файнберга дверцей в мир Библии, Евангелия – в мир Духа. Великолепная, поистине классическая проза, увлекательные художественные произведения. Эзотерика? Христианство? Художественная литература? Творчество Файнберга нельзя втиснуть в стандартные рамки книжных рубрик, потому что в нем объединены три мира. Как, впрочем, и в жизни...
Действие первой книги трилогии происходит во время, когда мы только начинали узнавать, что такое парапсихология, биоцелительство, ясновидение.
"Здесь и теперь" имеет удивительную судьбу. Книга создавалась в течение 7 лет на документальной основе и была переправлена на Запад по воле отца Александра Меня. В одном из литературных конкурсов (Лондон) рукопись заняла 1-е место. И опять вернулась в Россию, чтобы обрести новую жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В кухне возле длинного деревянного стола на лавке красовался старинный, кованный жестью сундучище. Витька уже стоял над ним, нетерпеливо дёргал замок.
— Погоди. — Жора поставил таз на стол, вынул ключ из кармана джинсов.
Крышка сундука была откинута, сверху лежала большая икона Богородицы в окладе, густо усеянном крупным жемчугом. Витька перекрестился, взял её.
— Это мне. В уплату долга.
Жора хотел что‑то возразить, но, глянув на меня, махнул рукой.
Сундук был доверху полон икон, серебряных крестов, трёхстворчатых складней, старинных эмалей…
Я повернулся, прошёл через мастерскую в переднюю, надел пальто и вышел.
Сверкает май. На чужой даче склоняюсь в огороде над пышной грядкой, сажаю вместе с хозяевами семена огурцов. Мне удивительно, что в каждом семечке содержится будущее растение — с корнями, стеблем, листьями, множеством цветков, плодов и в них опять семена.
Вынимаю из влажной тряпицы каждое проросшее семечко — белое, продолговатое, с хвостиком–корешком. Если приглядеться, все они неуловимо отличаются друг от друга, и все такие беззащитные… Осторожно опускаю в лунку одно, затем, налюбовавшись, — другое.
Хозяева дачи давно кончили с посадкой огурцов на своих грядках, а я все ещё вожусь.
В конце лета узнаю: растения на моей грядке дали неслыханный урожай. Хозяева просят, чтоб на следующую весну снова приехал сажать.
Она нашла меня в моём институте, та самая девушка, которая заплакала, когда я, словно ослепший от предательства Лещинского, уходил со сцены Коммунистической аудитории.
Весь март мы встречаемся каждое утро в 6.30 у зоопарка, проходим на его территорию. Пруды ещё покрыты льдом, на дорожках замёрзшие лужи. Во внутреннем помещении площадки молодняка Наташа надевает халат, отворяет вольер, и на неё с разгону прыгает яркая полосатая кошка. Это — ягуарёнок Прима. Шефствует Наташа над ней уже третий год, с рождения зверя.
Вцепившись когтями в халат, Прима блаженно урчит и раскачивается, не даёт убирать вольер. Я с трудом отрываю тяжёлую Приму от Наташи, держу на руках, чешу за ухом. Зверь недоверчиво щурит жёлтые глаза, бьёт по плечу упругим хвостом.
— Примочка, — говорю я, а сам смотрю на Наташу.
Светлые пряди волос падают ей на лоб, когда она нагибается за ведром, орудует шваброй. Почему, будучи все старшие классы юннаткой, она после школы пошла не на биологический, а на филфак?
«Родители настояли», — объяснила Наташа. Начиная с прабабушки все женщины в их семье кто учительница, кто преподаватель литературы в вузе. А Наташин отец — начальник треста, у него машина, шофёр.
Каждое утро до лекций она приезжает сюда, к Приме, кормит её, играет с ней. За этот месяц Наташа открыла мне ту сторону жизни зоопарка, которой обычно не знают посетители.
Слон одиноко стоит в полутьме слоновника, надсадно трубит и трубит.
Горилла, ухватившись мохнатыми руками за прутья решётки, часами гневно трясёт её.
В просторную клеть с двух сторон впускают льва и львицу. Члены комиссии в белых халатах смотрят, как он сзади накидывается на неё и, прикусив ей ухо, оплодотворяет. И тут же баграми их растаскивают в соседние клетки. О, как негодующе рычит лев, а у львицы — у львицы на глазах слезы…
Нахохлясь, недвижно сидят орлы с подрезанными крыльями.
Странно, Наташа не чувствует неволи. Это отчуждает нас друг от друга.
Однажды, уже в апреле, мы с Наташей, как всегда, встречаемся у площадки молодняка и узнаем, что Примы нет — её продали за валюту в какой‑то зарубежный зверинец. Я утешаю плачущую Наташу, но в глубине души рад — не придётся видеть выросшую Приму за стальной решёткой, кончаются тягостные походы в зоопарк, да и наше нечаянное знакомство.
Глава четырнадцатая
Не открывая глаз, я все лежал в темноте, пытался вспомнить, что мне только что снилось. Пробуждение быстро отделяло от какого‑то удивительного сна. Хотелось вернуться, погрузиться обратно в смутное, не имеющее имени состояние.
Наверное, так себя чувствует вольная летучая рыба, не рассчитавшая полёта и шлёпнувшаяся на сухой песок отмели.
В трезвеющем сознании всплывало известие о гибели Атаева, всплыла вчерашняя поездка с Витькой Драновым, омерзительная картина в мастерской… Потом в голове возник циферблат. Пять минут девятого. Протянул руку, включил ночник, взглянул на часы. Стрелки показывали ровно восемь.
Я с трудом заставил себя подняться. Мир был устроен плохо. Не хотелось вставать, идти навстречу новому дню.
Учитывая разницу во времени (там, у Нурлиева, в Азии, сейчас было уже одиннадцать), прежде всего заказал по междугородной разговор, потом умылся, поставил чайник.
Чтоб не будить мать, заварил чаю, с дымящейся чашкой ушёл к себе. Глянув на лежащий у телефона блокнот с режиссёрским сценарием, вспомнил ещё о Гошеве, как тот жал на звонок, вызывая секретаршу…
Сегодня снова предстояла вторая смена, за время которой нужно было отснять три номера — два танцевальных и хоровой вместе с Игоряшкой — песню о весёлом ветре.
Я не мог заставить себя думать о работе. Сидя за столом, попивал чай, рассеянно смотрел перед собой, не понимая, что приковывает взор. Не сразу осознал: да это светает! Световой день пошёл на прибыль. В просвете между корпусами домов над апельсиново–нежным востоком ярко сияла Венера. Так ярко. Так чисто.
Я уже стоял под открытой фрамугой, не в силах оторвать взгляда от притягательных лучей звезды. И это притяжение вызвало чувство, схожее с тем, которое я испытывал позавчера, глядя на склонённую голову Анны Артемьевны.
«Что же это, звезда как любовь?» — подумалось мне.
За миллионы километров отсюда далёкая звезда летела, вращаясь, как и Земля, вокруг Солнца, и все они одновременно мчались в Галактике, оказываясь каждую секунду в новом пространстве. В том, что это объективно происходило и никто не знал, откуда, куда и зачем несёт сквозь космос всю Солнечную систему, заключалось величие такой тайны, что все напасти моей, Артуровой, маленькой жизни показались ничтожны, особенно по сравнению с тем потрясающим фактом, что мне дано видеть, чувствовать, сознавать эту тайну; быть её составной частью.
Пока человек задаёт вопросы, на которые нет ответа, он жив. Это ощущение, близкое мне всегда, сейчас стало особенно отчётливым, и я почувствовал: необыкновенная, победительная сила вошла внутрь. Вошла вместе с печалью, оттого что не все люди помнили об этой тайне, и, пожелай я поделиться с ними, они, наверное, сказали бы, что я поэт, а это в данном случае было бы просто глупостью, увёрткой, боязнью остаться наедине с истинным масштабом жизни.
Рассвет набирал силу. Заслонял своими лучами утреннюю звезду, и если бы я отвёл на мгновение взгляд, уже не нашёл бы её. «Но ведь и днём и она, и все созвездья всегда над нами, никуда не уходят», — и эта констатация обычной реальности открылась видением: поверх голубого чистого неба высился чёрный загадочный космос, полный сияющих звёзд.
И точно так же, когда на рассвете не хотелось отрываться от забытого сна, сейчас я с досадой отвлёкся от своего открытия, услышав резкий дребезг звонка междугородной.
— Кто спрашивает Тимура Саюновича? — раздался голос секретарши.
— Крамер. Из Москвы.
Я ждал, когда Нурлиев возьмёт трубку, и думал, что, в сущности, звоню зря: ну, узнаю, как, при каких обстоятельствах погиб Атаев, должен буду сказать приличествующие слова, которые не нужны ни Нурлиеву, ни мне и лишь подчеркнут наше обоюдное бессилие, невозвратность потери.
Утро за окном разгоралось. Обещало быть солнечным, голубым.
— Здравствуй, — послышался в трубке тусклый голос Тимура Саюновича. — Как живёшь?
— По–всякому… Вчера вот вышла газета…
— Видел. Неделю назад мы его проводили. Нет больше Рустама. Но ты не вини себя, ты ни в чём не виноват.
— В чём не винить?! Что случилось?