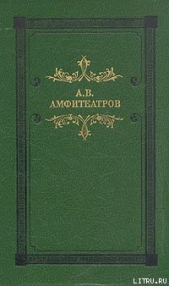Первые воспоминания. Рассказы
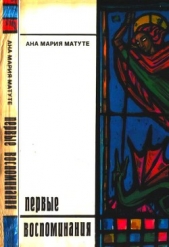
Первые воспоминания. Рассказы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не боялись его и должники. Они знали, что он может разорить их одним росчерком пера, но подсмеивались над ним и передразнивали его походку и жесты. В деревне уверяли, что дед хочет очистить сельские нравы и убить священника.
Он орал так грозно, что голос его можно было принять за гром, и яростно размахивал руками даже тогда, когда сообщал нам, что скоро пойдет дождь. Собаки скалились на него и хватали за пятки. А он клялся и божился, что прекрасно понимает их язык.
Дети часто писали ему, звали его в город. Но он оставался на своей земле, влачил по мрачным комнатам тяжкий груз годов, смотрел на перелетных птиц, ждал лета.
Дом был огромный до нелепости, двери — утыканы ржавыми гвоздями, фасад — украшен позеленевшим каменным гербом. В комнатах всегда был холод, и вечно пустующие скамьи покрылись мхом от постоянной сырости. И вот что странно: на балконах росла трава. Чудеса, да и только! Хотя, по правде сказать, там все было чудом, и жила я, как в странной сказке. Вцепившись в кованые прутья балкона, я смотрела сверху на живое золото воды, плачущей в тростниках. У деда не было служанок — он не хотел пересудов, столь свойственных деревне; всю работу делали два конюха и старый слуга, мастер на все руки, который в лучшие дни ходил с дедом на охоту, а теперь занимался стряпней. Его прозвали «Волком». По воскресеньям он пек хлеб и тщательно, как юнга, драил дощатый пол. Старик был хитрый, настоящий пройдоха. Он прикарманил ключи от погреба, умел рассмешить скупого на смех дедушку прибаутками про Ноя и — один из всех — притворялся, что боится хозяина. Но я сразу учуяла, что в доме распоряжается он, и восхищалась им.
Не буду лгать и не скажу, что мне было плохо в этом доме, в этой деревне, среди этих людей. Дедушка к тому времени давно не видел детей, я была для него хоть и родственницей, но далекой, непонятной и, в сущности, чужой. По правде говоря, он меня не трогал, если я не трогала его вещей и не била посуду. Мне говорили, что он суров и не выносит «детских штучек», — наверное, так оно и было. Но в гневе своем и строгости он не выходил за пределы яростной брани. Грозился дед страшно — и никогда не выполнял угроз. Я много раз слыхала от отца, что он бьет по пальцам тростниковой палкой, но и этой издавна известной меры он ко мне не применял.
В общем, я могла, сколько хотела, бегать по саду, кидать камни в колодец, гоняться за ящерицами и даже гладить по холке старых, ненужных кляч, которых дед держал в конюшне. Могла и карабкаться по горе, до самой опушки черного леса, дальше меня не пускал суеверный страх. Могла купаться в речке, лазить на нижние ветки деревьев и копать канавки в пахучей мокрой земле.
Но, как на беду, я не полюбила ни этот край, ни дедушку, ни дом. Не успела я сюда приехать, как захотела поскорей вырваться и места себе не находила от нетерпения. Ведь меня насильно послали к деду, — вот я и жаждала свободы. Чем мягче становилась трава, чем ярче разгорался костер осенней листвы, чем причудливей и невиданней были облака, тем упорнее я стремилась сбежать.
Дедушке было не до меня, с него хватало воспоминаний. Очень уж много лет разделяло нас. Время вырыло ров молчания, и нам не о чем было говорить. За столом он иногда смотрел на меня с любопытством, и как-то пожаловался:
— Вот до чего дожил…
Однажды я особенно ясно поняла, как мало почитают дедушку в деревне. Какие-то парни застрелили косулю, принесли ее на шесте под наш балкон и принялись орать. Они были пьяные и пели грубую песню про старого охотника, который вечно мазал, а потом хвастался охотничьими подвигами. Я так и ждала, что вот-вот они назовут деда. Дождь лил им на голову, затекал за шиворот, а они пели, качались и хохотали. Дедушке было не по себе — такие намеки задевали его за живое. Помню, потолок протекал, и капли стучали — тук, тук! — по деревянному столу, а в камине трещали поленья. Дедушка делал вид, что ничего не слышит, только пожимал плечами, как маленький. Мне стало очень грустно, хотя я и не все понимала, и я ушла.
За дверью стоял Волк. Он фыркал и зажимал рот ладонью, чтобы не расхохотаться.
— Ты его тоже не любишь, — сказала я, засмеялась и потянула Волка за полу. — Ты его тоже не любишь…
Он погрозил мне рукой, словно хотел придавить к земле, и побежал вниз по лестнице. А я убедилась еще раз, что дедушка — смешной и нелепый и надо во что бы то ни стало держаться от него подальше. Пение прекратилось. Пьяные утомились, ушли, а внизу, в грязи остались следы и красноватые лужи. Я подышала на стекло и написала на нем: «Дедушка глупый, старый, сумасшедший». И убежала поскорей, фыркая, как Волк.
Вечером, когда столы и стулья становились какими-то страшными, Волк напивался и, пристроившись под лестницей, тянул печальную песню. Я зажигала свечку и шла к себе, обдумывая по дороге, как бы мне улизнуть. Почему-то я не тосковала по дому, даже не думала о братьях. И песня старого лицемера не наводила на меня тоску — наоборот, мне было приятно, даже щекотно в затылке.
Потому я и сказала, что с удовольствием побродила бы по бесчисленным странам, размещающимся в детском мозгу. Ведь я могла бы очень хорошо жить в этом доме, у этих людей.
Немного позже, когда земля стала холодней и темнее, начались занятия в местной школе. Тогда и пришло длинное письмо из дома. Родители давали понять, что неплохо бы мне поучиться в деревне: «Таким образом, она разберется сама, как сильно отличается школа, в которую мы ее отдали, от школы, где учатся менее счастливые дети…» В заключение они предполагали, что такой плохой и невоспитанной девочке это пойдет на пользу. Что ж, мысль прекрасная, безупречная в педагогическом отношении. Дедушка медленно прочитал письмо вслух. Потом швырнул его в огонь, вытряхнул пепел из трубки и задумался.
— Я пойду в школу? — спросила я.
— Иди, — сказал он, — только помни: пожалуются — шкуру спущу и ремней наделаю.
Школа помещалась в квадратном здании, и ее белые, довольно чистые стены выделялись среди темных деревенских домов. Вокруг был пустырь, — может быть, прежде там собирались развести сад, но так и не собрались, и теперь только грязные, мятые бумажки катились по земле. Несколько птичек, печальных и замерзших, искали на подоконниках крошки.
Сквозь побуревшую, размытую дождями солому крыши виднелись балки. Помню, на самом краю висело сухое, мертвое гнездо.
На дверях учитель прибил красноречивое объявление: «Охотно даю частные уроки. Все дни от 6 до 8 часов. Можно и в воскресенье». Последняя фраза была наполовину стерта, — без сомнения, по приказу священника.
В первый раз я шла в школу по мокрой траве, и яркая медь крутой тропинки ослепительно, до боли сверкала в сером воздухе. Все смешивалось и мелькало, словно причудливый веер из карт раскрывался передо мной: красные следы на глине; лиловые глаза домовых, притаившихся, наверное, в придорожном амбаре; стриженые деревенские дети, швырявшие в меня камнями.
Подойдя к школе, я сразу увидела учителя и никогда, пока я жива, не забуду его. Он был тощий, долговязый, крутолобый и такой растрепанный, что волосы его стояли венчиком, словно у сумасшедшего. В потертом костюме с темными заплатами на коленях и на локтях, он стоял у дверей школы и пытался урезонить мальчишек, метавших камни в объявление. Глаза его лихорадочно блестели, он багровел от гнева и визжал: «Прекратить! Прекратить!» На левой руке он держал очень маленького мальчика, правой сжимал, как шпагу, длинный ореховый прут. Мальчик — помытый и босой — сосал четыре пальца и время от времени проводил обслюнявленной ручкой по отцовскому лицу.
Я видела позже, как учитель целый день ходит с сыном на руках. Так шагал он по улицам, и крестьяне шарахались, когда он вдруг гневно взывал к небу, требуя справедливости. Объявление успеха не имело — никто не хотел пополнять знания, даже за столь скромную плату, как дуро за урок.
Класс всегда принимает новеньких не слишком ласково. Меня приняли в штыки. Особенно рассмешило всех мое платье. Ребята стали кидать в него грязью, плеваться, дергать меня за волосы. Однако учитель пригрозил, что позовет священника, и дикари приутихли. Священника здесь боялись.