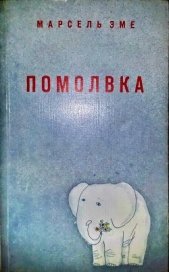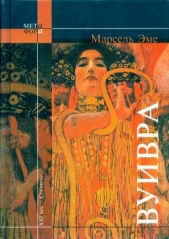Вино парижского разлива

Вино парижского разлива читать книгу онлайн
Марсель Эме (1902–1967) — всемирно известный писатель, продолжатель лучших традиций французской литературы, в произведениях которого причудливо сочетаются реализм и фантастика, ирония и трагедия. В России М. Эме известен главным образом детскими сказками и романами. Однако, по мнению критиков, лучшую часть его творческого наследия составляют рассказы, в том числе и вошедшие в этот сборник, который «Текст» издает второй раз. «Марселю Эме удается невозможное. Каждая его книга может объединить, пусть на час, наших безнадежно разобщенных сограждан, растрогать самых черствых, рассмешить самых угрюмых. У него мудры не только старики, потешны не только шуты, добры не только дурачки» (Антуан Блонден).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дюперье не стал с ней спорить и, удалившись в спальню, принялся молиться. Говорил он примерно так: «Господи, Ты дал мне высшую — не считая мученического венца — награду, о какой может мечтать человек в земной жизни. Спасибо Тебе, Господи, но я женат и делю с женой хлеб испытаний, которые Ты мне ниспосылаешь, как и мед Твоих милостей. Только так супружеская чета может следовать прямым путем, предначертанным Тобою. А моя жена видеть не может нимба, ей самая мысль о нем противна, и вовсе не потому, что это дар небесный, но просто потому, что он — нимб. Ты ведь знаешь женщин. Если из ряда вон выходящее событие не перевернет им всю душу, их жалкие умишки ни за что не поймут его. С этим ничего не поделаешь, и, проживи моя жена еще сто лет, в ее мире не найдется местечка для моего нимба. Боже, Ты читаешь в моем сердце и знаешь, как далек я от забот о собственном покое и о теплых тапочках. Ради счастья носить на лбу печать Твоего благоволения я готов безропотно вытерпеть самые бурные домашние сцены. К несчастью, речь идет не о моем спокойствии. Моя жена перестала радоваться жизни. Хуже того — я предвижу: настанет день, когда из ненависти к моему нимбу она проклянет имя Того, кто дал его мне. Неужели я буду безучастно смотреть, как гибнет и губит свою душу та, кого Ты избрал мне в супруги? Я стою на перепутье, и истинный путь не кажется мне путем милосердия. Пусть же Твоя бесконечная справедливость вложит ответ в уста моей совести — вот смиренная мольба, которую я в час сомнения слагаю к Твоим сияющим стопам, о Господь мой».
Едва он успел договорить, как внутренний голос высказался в пользу греховного пути, указав, что ему надлежит исполнить христианский долг. Дюперье вернулся в столовую, где, скрежеща зубами, его ждала супруга.
— Бог справедлив, — изрек Дюперье, сунув большие пальцы в проймы жилета. — Он знал, что делает, когда дарил мне этот нимб. Я в самом деле заслуживаю его больше других. Ни один человек не может со мной сравниться. Стоит мне подумать о низостях человеческого стада и о тех совершенствах, средоточием коих являюсь я сам, мне хочется плевать в лицо прохожим. Бог, конечно, меня наградил, но если бы церковь имела хоть крупицу понятия о справедливости, разве не был бы я, по меньшей мере, архиепископом?
Дюперье избрал грех гордыни — это позволяло ему, восхваляя собственные заслуги, славить наградившего его Господа. Жена быстро смекнула, что он решительно вступил на стезю греха, и смело включилась в игру.
— Дорогой мой, — ответила она, — как я тобой горжусь! Мой кузен Леопольд с его автомобилем и виллой в Везине в подметки тебе не годится.
— И я так считаю. Если бы я захотел, мог бы преуспеть не хуже любого другого и обставить Леопольда, но я избрал иной путь и достиг иных высот, чем твой кузен. Я презираю его деньги, как и его самого, и всех бесчисленных глупцов, которым никогда не уразуметь величия моей скромной жизни. Ибо они, имея глаза, меня не видят.
Сказанные через силу слова, истерзавшие раскаянием сердце Дюперье, через несколько дней стали выскакивать с легкостью, вошли в привычку и уже не стоили Дюперье ни малейшего усилия. И так велика власть слов над разумом, что в конце концов Дюперье стал принимать свои высказывания за чистую монету. В его гордыне уже не было ничего наигранного, и он сделался несносным для окружающих. Между тем жена с тревогой присматривалась к сиянию нимба и, видя, что он не тускнеет, нашла мужний грех каким-то несерьезным. Дюперье тут же согласился с ней.
— Ты совершенно права, — сказал он. — Я вовсе не впал в гордыню, но всего лишь высказал простейшую и очевидную истину. Когда достигаешь, подобно мне, высшей степени совершенства, слово «гордыня» утрачивает всякий смысл.
Продолжая тем не менее похваляться своими заслугами, он признал необходимость изведать еще какой-нибудь грех. Дюперье решил, что чревоугодие лучше прочих смертных грехов поможет исполнить его намерение — избавиться от нимба, не слишком испортив отношения с небесами. Представление о чревоугодии питалось воспоминаниями о том, как мягко журили его в детстве, когда он объедался вареньями или шоколадом. Исполненная надежды супруга принялась готовить для него изысканные блюда, от разнообразия казавшиеся еще вкуснее. На столе сменяли друг друга пулярки, запеченные паштеты, форель в красном вине, омары, салаты, сласти, фигурные торты и дорогие вина. Трапезы тянулись вдвое, если не втрое дольше прежнего. Страшно и противно было смотреть на повязанного салфеткой Дюперье, красного, с осоловевшими глазами, жующего, чавкающего, хлюпающего, истекающего соусом и перемазанного кремом, заталкивающего в глотку мясо и колбасу, запивая их кларетом, и рыгающего из-под своего нимба. Вскоре он пристрастился к изысканной и обильной пище. Часто ему случалось выговаривать жене за пережаренную баранью ногу или плохо сбитый майонез. Как-то вечером, раздосадованная его брюзжанием, она сухо заметила:
— Твой нимб в полном порядке, по-моему, он тоже разжирел от моей стряпни. В общем, я вижу, чревоугодие вовсе не грех. Его единственный недостаток в том, что оно дорого обходится, так почему бы не посадить тебя снова на овощной супчик и макароны?
— Отвяжешься ты от меня или нет? — зарычал Дюперье. — На овощной супчик и макароны? Еще чего! Мне лучше знать, что делать! Макароны! Нет, ну надо же, какая наглость! Вот чем платят женщины за то, что ради них погрязаешь в грехе. Молчать! Смотри, ты у меня дождешься!
Один грех влечет за собой другой, и ущемленное чревоугодие вкупе с гордыней порождает гнев. Дюперье впал в этот новый грех, уже не зная точно, старается ли он ради жены или уступает природной склонности. Этот человек, до сих пор славившийся своей мягкостью и обходительностью, то и дело разражался криками, бил посуду, а иногда и поколачивал жену. Ему случалось даже богохульствовать. Все более частые гневные припадки не мешали ему оставаться гордецом и чревоугодником. Он грешил теперь по трем статьям, и у госпожи Дюперье возникали довольно мрачные соображения насчет безграничной снисходительности Господа.
И все же в запятнанной грехопадением душе способны процветать прекраснейшие добродетели. Возгордившийся и гневливый чревоугодник Дюперье по-прежнему был исполнен христианского милосердия и хранил возвышенное представление о своем человеческом и супружеском долге. Увидев, что небо глухо к его припадкам гнева, он решил сделаться завистником. Правду сказать, зависть незаметно для него уже угнездилась в его душе. Обильная пища раздражает печень, гордыня обостряет чувство несправедливости, и в результате даже лучший из людей начинает завидовать ближнему. Гнев разжигал зависть Дюперье. Он завидовал родным и друзьям, начальству, лавочникам и даже знаменитым спортсменам и кинозвездам, чьи портреты видел в газетах. Любая мелочь портила ему настроение, и иногда его просто трясло от злобы при мысли о том, что у соседа ножи с серебряными ручками, а у него самого всего-навсего с роговыми. Однако нимб сиял по-прежнему. Дюперье не удивлялся этому, решив, что на самом деле он не грешил: он убедительно доказывал, что его так называемое чревоугодие — это всего-навсего здоровый аппетит, а гнев и зависть — лишь проявления обостренного чувства справедливости. Наиболее убедительным аргументом оставался нимб.
— Я все же считала небо более щепетильным, — говорила порой его жена. — Если твое обжорство и спесь, твоя грубость и низость не заставляют нимб потускнеть, уж мне-то местечко в раю наверняка обеспечено.
— Заткнись! — гневно обрывал ее муж. — Когда только ты перестанешь зудеть? Мне это осточертело. Тебя забавляет, что такой святой человек, как я, вынужден ради спокойствия жены ступить на путь греха? Заткнись, поняла?
В тоне этих отповедей не слышалось мягкости, какой естественно было бы ожидать от человека, увенчанного нимбом. Начав грешить, Дюперье опустился. Его аскетическое лицо стало заплывать жиром. Не только речь, но и самые мысли его отяжелели и огрубели. К примеру, заметно изменилось его представление о рае. Прежде ему виделись сладко поющие души в прозрачных, как целлофановые пакеты, платьицах. Теперь же обитель праведных все явственнее рисовалась ему в виде большой столовой. Госпожа Дюперье конечно же замечала перемены в муже и начала беспокоиться за его будущее, хотя перспектива его падения пока не могла поколебать чашу весов и отвращение ко всему необычному пересиливало страх. Уж лучше муж — безбожник, гуляка и сквернослов, как кузен Леопольд, думала она, чем Дюперье со своим нимбом. Хоть перед молочницей не придется краснеть.